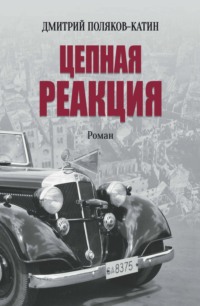Kitobni o'qish: «Цепная реакция»
© Поляков-Катин Д. Н., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
* * *
Пролог
1944 год
Гайд-Парк, округ Датчесс, штат Нью-Йорк, поместье Спрингвуд, 30 декабря

Утром в вашингтонский офис «Манхэттенского инженерного округа» инженерных войск армии США, обозначенный на входе ничего не значащими цифрами «0084», курьер из Белого дома доставил билет на ночной поезд из Вашингтона в Нью-Йорк до Поукипси, где генерала будет ждать автомобиль, который довезет его до поместья Спрингвуд. Генерал не любил поезда. Выбирая средство передвижения, он предпочитал либо самолет, либо старый, добрый «виллис», не соответствующий, разумеется, генеральскому статусу и оттого воспринимавшийся всеми как командирская блажь, но простой и в меру удобный.
Однако офис в Вашингтоне не располагал «виллисом», а имел в своем распоряжении только «бьюик лимитед» – выкрашенного в темно-зеленый цвет восьмицилиндрового зверя, предназначенного для перевозки высших офицеров. Генерал приказал вернуть железнодорожный билет обратно со словами, что он поедет на своем автомобиле.
Отбыли в полночь и под утро уже выруливали в предместье Поукипси.
– Сэр, – обратился к генералу водитель, – до Гайд-парка ехать от силы полчаса, а у нас в запасе еще час с четвертью. Что прикажете делать?
Генерал недавно проснулся и осоловело глядел в одну точку перед собой, пытаясь собраться с мыслями.
– Останови где-нибудь, – наконец сказал он и повернул голову к сидевшему позади майору: – Генри, налейте мне кофе.
Пару недель назад северо-восточную часть Америки накрыла небывалая снежная буря; с тех пор город утопал в пышных сугробах, отчего в предрассветных сумерках сонные улочки, украшенные разноцветными гирляндами, смотрелись, как на рождественской открытке.
Водитель припарковал машину между двух сугробов на обочине и заглушил двигатель. Пока майор возился с термосом, генерал вылез наружу. Прогнувшись, он зачерпнул ладонями горсть снега и энергично растер им лицо.
– Прошу вас, – протянул стаканчик с дымящимся кофе майор.
Держа кофе перед собой, генерал медленно побрел в сторону возвышавшейся черной тенью на фоне светлеющего неба церкви.
Воздух был пронзительно свеж, хотя уже слегка потягивало печным духом от частных особняков; будто невидимая рука покрыла всё вокруг нежно-голубым газом. Желтый блеск немногочисленных фонарей становился бледней, прозрачней, пятна от них медленно таяли на занесенных снегом пустынных дорожках, сохраняющих вчерашние следы ботинок, собачьих лап, детских колясок. Ни шороха, ни ветра, время замерло. От снежных шуб, укутавших застывшие деревья, крыши домов, ограды, фонари, веяло удивительным покоем.
Дойдя до церкви, генерал остановился. Между домами просвечивала белая шкура Гудзона. Рождество, скоро Рождество… Ничего более мирного и представить себе невозможно.
Ровно в восемь утра «бьюик» въехал на территорию поместья Спрингвуд и остановился перед колоннадой портика на входе в усадьбу. Навстречу вышел молодой камердинер.
– Доложите, что прибыл Лесли Гровс, – сказал генерал.
Камердинер отступил в сторону, приглашая генерала войти:
– Вас ждут. Позвольте вас проводить.
В вестибюле, увешанном военно-морскими картинами, гувернантка, сделав мимолетный книксен, приняла шинель генерала. Тяжелой поступью грузного человека, на ходу разглаживая примятые фуражкой волосы, генерал зашагал следом за камердинером по узкому коридору, упиравшемуся в плотно закрытую дверь.
– Минуточку, – сказал молодой человек, взявшись за дверную ручку, – я доложу.
Рузвельт сидел за письменным столом с зажатым в зубах длинным мундштуком и с лупой в левой руке, овеянный клубами табачного дыма. Безупречно одетый, с перстнем на мизинце и в бабочке, он внимательно глядел на явившегося генерала поверх пенсне, висевшего на кончике носа. Слева в оконной нише, повернувшись к столу, распластала крылья безглавая Ника Самофракийская – реконструкция знаменитой статуи Пифокрита. Хотел того президент или нет, но белое изваяние Ники первым делом бросалось в глаза каждому вошедшему, намекая на победоносный дух хозяина кабинета.
– А-а, генерал! – просиял Рузвельт. – Спасибо, что приехали. Надеюсь, вас не утомила дорога?
Гровс открыл рот, чтобы ответить, но президент остановил его предостерегающим жестом: работало радио. Бодрый тенор скороговоркой зачитывал сводки с фронтов: «Небо над Арденнами наконец прояснилось, что позволило нашей авиации совместно с авиацией союзников начать воздушные атаки на укрепления противника. Есть основания полагать, что немецкое наступление захлебнулось. С Тихоокеанского театра поступают вести, что в джунглях Миндоро, несколько дней назад захваченного нашими войсками, отмечаются эпизодические столкновения с разрозненными отрядами японцев. На острове развернуты работы по строительству взлетно-посадочных полос».
– Вы не могли бы выключить радио, – попросил Рузвельт. – Я заметил, что утренние новости, как правило, отличает туманность. Вероятно, это связано с ранним пробуждением радиоведущих. Я тоже плохо соображаю спросонья. Если, конечно, сплю.
Гровс выключил приемник. Открылась дверь смежной комнаты, и в кабинете возник высокий сутулый человек изможденной наружности, одетый в черный фланелевый костюм, наводящий на мысль об услугах похоронного ведомства. Он тихо поздоровался, беззвучно пересек комнату и сел в кресло, заложив ногу на ногу.
– Вы не знакомы? – спросил Рузвельт и, не дожидаясь ответа, представил: – Гарри Гопкинс, мой советник. Он в курсе всех дел, какие только есть на белом свете. Присядьте, генерал. В кофейнике, кстати, есть горячий кофе. Угощайтесь, прошу вас. Гарри, если вам не трудно…
Не сказавший до сих пор ни слова Гровс склонил голову и решительно проследовал к креслу, стоявшему напротив Гопкинса, который с сосредоточенным видом разливал кофе по трем чашкам.
– Я слышал, что друзья обращаются к вам Дик? – продолжил Рузвельт.
– Так точно, мистер президент, – подал наконец голос Гровс.
– Так вот, Дик, заранее хочу предупредить, что наше рандеву носит сугубо неофициальный характер и ни в каких журналах посещений отражено не будет. – Гопкинс отнес чашку с кофе президенту и вновь занял свое кресло. – Вы, конечно, догадываетесь о причине нашей сегодняшней встречи?
– Очевидно, поводом стал мой доклад? – предположил Гровс, уверенный, что так оно и есть.
Рузвельт отложил в сторону кляссер с почтовыми марками, которые рассматривал до появления Гровса, выдвинул ящик стола и достал оттуда тонкую папку.
– Не стану скрывать, доклад взволновал нас, – сказал он, поправив пенсне на переносице. – Подробный, интересный документ. Очень квалифицированный. Но вывод… Вы пишете: «Исследование поставок оружейного урана за последние три месяца показывает следующее: при нынешних темпах у нас будет десять килограммов примерно седьмого февраля и пятнадцать килограммов примерно первого мая». Пятнадцать килограммов. Это же недостаточно. Насколько я помню, для мало-мальски приличной атомной бомбы требуется не меньше пятидесяти?
Гровс отставил кофе:
– Так точно.
– Насколько авторитетны данные выводы?
– Вполне авторитетны. Я опирался на заключение Эрика Джетта, главного специалиста по металлургии Лос-Аламоса. Джетт – эксперт высшей категории, ученый первого звена.
Гровс говорил короткими, рублеными фразами, ему казалось, что слова звучат неубедительно, и он злился на себя, стараясь сосредоточиться.
– У меня нет сомнений в квалификации мистера Джетта, – заверил Рузвельт. – Но есть желание понять, где мы находимся и сколько нам еще предстоит? Знаете старую истину: живи сегодня, но знай свой путь.
– Такова объективная картина, мистер президент. Предприятия Ок-Риджа работают круглосуточно. Но если не произойдет технологического прорыва, то для наработки необходимого количества обогащенного урана нам понадобится полгода – год.
– А он произойдет, прорыв?
Рузвельт положил на пепельницу мундштук с окурком и взял из шкатулки сигарету «Кэмел» – эту марку он предпочитал всем другим.
– Непременно, – отрезал Гровс. – Но об этом лучше поговорить с Робертом Оппенгеймером. Он научный руководитель Манхэттенского проекта. Мое понимание научного процесса формирует в первую очередь Оппенгеймер.
– Ох уж эти ученые, – усмехнулся Рузвельт. – Однажды мне довелось беседовать с мистером Эйнштейном. Он говорил, я слушал. Недельная доза моего серого вещества была исчерпана в первые полчаса общения. Англичане в таких случаях говорят: не моя чашка чая. Оттого-то, Дик, я и пригласил вас, что мы с вами одного поля ягоды – оба администраторы. Следовательно, говорим на одном языке.
– Два миллиарда, – тихо произнес Гопкинс, растирая в пепельнице окурок.
– Что, Гарри? – не расслышал президент.
– Я говорю, два миллиарда за неполные два года – столько стоит проект Y.
Гровс бросил на Гопкинса неприязненный взгляд.
– Боюсь, это не предел, – холодно заметил он, стараясь, чтобы тон его не прозвучал зловеще. – Я не удивлюсь, если в ближайшем будущем цифра удвоится.
– Чем объяснить, Дик, что при таких затратах и усилиях такого количества научных светил мы по-прежнему далеки от создания атомной бомбы? – спросил Рузвельт.
Какое-то время Гровс сосредоточенно молчал. Потом он заговорил, обращаясь исключительно к Рузвельту:
– Я инженер, мистер президент. Администратор, как вы справедливо заметили. В моей компетенции – организация процесса, но не научные достижения. Пять дней назад в Хэнфорде введен в строй второй котел, и в течение месяца начнет работать третий. Через неделю линия по переработке плутония выдаст первую партию, и она отправится в Лос-Аламос. Дальше – Клинтоновский инженерный завод в Ок-Ридже. Уже год в рамках этого предприятия работает электромагнитный завод Y-13, где получают полностью обогащенный уран, то есть такой, какой необходим для бомбы. В марте в Лос-Аламос отправили первую партию. Концентрация этого урана, к сожалению, пока невысокая, но вполне годится для экспериментов.
– Эксперименты – хорошо. – Рузвельт снял пенсне и помассировал двумя пальцами переносицу. – Есть ли у нас время на эксперименты?
– Это вообще не быстрый процесс, как вы, конечно, знаете. Для максимального выхода плутония облучение урана в котле должно продолжаться несколько месяцев, лишь после этого можно начинать его отделение от невыгоревшего урана и продуктов деления.
– Так что же требуется для ускорения – кроме времени и денег, разумеется?
– Как я уже сказал, нужен технологический прорыв. Этим и занимаются сотрудники Лос-Аламоса.
– Из вашего доклада следует, – снова заговорил Гопкинс, – что вопрос не исчерпывается проблемой наработки обогащенного урана. Насколько мне известно, возник своего рода тупик и с разработкой бесконтактного взрывателя для бомбы, над которым бьются наши ученые.
– Я бы не называл это тупиком, – с заносчивым видом отреагировал генерал. – Любой научный процесс имеет фазы: успех, провал, пауза. У меня нет сомнений, что взрыватель будет сделан. Когда? В скором времени. Но пока мы находимся в фазе паузы. Я знаком с работой наших специалистов. Она сфокусирована на имплозивной схеме инициации взрыва плутониевой бомбы. Это сложно. Но они продвигаются.
– Мы живем в режиме гонки, генерал. – В усталых глазах Гопкинса не отразилось никаких эмоций; он как был, так и оставался холодно-спокоен. – В каком-то смысле мы боремся не за бомбу как таковую, а за лидерство, от которого зависит наше существование. Не так ли? Как нам ускорить процесс?
– Мистер президент, – Гровс выпрямил спину, – я и только я несу ответственность за Манхэттенский проект. И если его результаты оказались не столь значительны, то…
– Нет-нет, Дик, мы пригласили вас не для того, чтобы устроить головомойку. – Рузвельт откинулся в кресле. – Нам нужно разобраться и принять решение. Вместе с вами… Скажите, в какой мере, по-вашему, немцы продвинулись в создании бомбы?
– Этот вопрос тревожит меня. Если немцы сохранили темп научных разработок, то угроза более чем реальна. И не важно, что они проигрывают. Атомный боеприпас способен изменить расклад на поле боя. Сказать определенно, чего они достигли, невозможно. Лаборатории уранового проекта разбросаны по территории всей страны, и у каждой – свой исследовательский участок. Но надо помнить, что лучшие специалисты в области ядерной физики – по-прежнему в Германии.
– Немцы провели испытания, – заметил Рузвельт.
– Да, в районе Рюгена. Они подорвали установку. Это не бомба, но шаг к ней.
– А русские? – спросил Гопкинс. – Они ведь тоже озабочены этим вопросом.
Почувствовав себя более уверенно после слов президента, Гровс смягчился и более благожелательно посмотрел на Гопкинса:
– Скажу просто: учитывая, что применение бомбы в войне должно быть полностью неожиданным, мы прибегли к самым жестким мерам секретности в отношении наших открытий и проектов, чтобы сохранить их в тайне от противника. В том числе и от русских.
Бледная тень снисходительной улыбки чуть коснулась тонких губ Гарри Гопкинса. Стремление Гровса выстроить подконтрольную ему лично службу безопасности Манхэттенского проекта стало притчей во языцех. Наверху, в сущности, понимали, что таким образом генерал набивал себе цену в качестве незаменимого советника в делах большой политики. Осознавая исключительную важность работы Гровса, власть предпочла считаться с его маленькими человеческими слабостями.
– То есть, генерал, вы относите русских к нашим противникам? – уточнил Гопкинс.
– Я понимаю ваш вопрос. Русские наши союзники, общая коалиция против Гитлера. Но это сейчас. А что будет потом, когда Гитлера не станет? У них тоже ведутся работы по урановому оружию. Я, конечно, сомневаюсь в успешности их усилий – им сейчас не до того, да и финансовые возможности ограничены. Но не учитывать их усилий я, как руководитель Манхэттенского проекта, не имею права. К тому же у них сильная школа. Так говорят наши физики.
– Вы также изолировали англичан, – сказал Рузвельт.
– Да.
– Хм, я испытываю некоторую неловкость перед Черчиллем. Он постоянно интересуется, почему британские ученые не допущены к нашему проекту? Кстати, русские тоже нажимают на союзнические отношения в этом щекотливом вопросе.
– Чтобы умерить их интерес, мы периодически подбрасываем кое-какую информацию. Она не способна нанести ущерб исследованиям, но демонстрирует нашу открытость. Что касается британцев… Знаете, я не понимаю этого их любопытства… Впрочем, мы докладывали вашему аппарату о визите лорда… как его, простите… Черуэлла в ноябре. По просьбе, как я понял, мистера Черчилля, я показал ему все, что можно было показать, кое-какие достижения… По-моему, он остался доволен.
Губы Рузвельта тронула ироничная улыбка. На самом деле он не возражал против отторжения физиков Великобритании от Манхэттенского проекта. Довольно того, что после сентябрьского совещания в Квебеке Черчиллю было сказано, что работа над атомной бомбой будет продолжена, однако использована она будет против японцев – с условием повторения до тех пор, пока они не капитулируют. Именно тогда советнику Черчилля по научным вопросам лорду Черуэллу была обещана встреча с Гровсом.
Рузвельт не стал развивать эту тему, он вновь спросил:
– Так все-таки, Дик, ваше мнение – как ускорить реализацию проекта?
С улицы доносился скребущий звук лопаты, убирающей снег. После непродолжительного молчания генерал с твердой убежденностью в голосе ответил:
– Получить мозги немецких физиков. И как можно скорее.
Уже совсем рассвело. Рузвельт выключил настольную лампу и посмотрел в окно. Стекла пенсне сверкнули холодным блеском.
Лишь теперь довольно равнодушный к окружающим Гровс, приглядевшись, обратил внимание, как постарел, осунулся президент. Крупное, обычно полное лицо точно смялось, одряхлело. Вокруг глаз залегли розовые тени, придающие облику Рузвельта очевидную болезненность, при том что кожа лба, щек и гладко выбритого подбородка в потоке пасмурного света отливала каким-то серо-голубым глянцем. Глубокие складки от носа к уголкам губ словно тянули лицо книзу, линия плеч обострилась, волосы поседели и сделались реже. «А президент-то сдал», – отметил про себя Гровс.
Это была простая, беспощадная правда. В последнее время здоровье Рузвельта все быстрее катилось вниз. Президентская гонка не прошла даром. Победное переизбрание на четвертый срок сопровождалось диагнозом стенокардии, атеросклероза и сердечной недостаточности; с повышенным давлением он жил уже несколько лет. Все эти медицинские заключения были немедленно приравнены к государственной тайне, однако обмануть себя, как это бывало с другими, больше не получалось.
Ночь он не спал. Накануне, после долгих переговоров со Сталиным и Черчиллем о месте проведения конференции под кодовым названием «Аргонавт» (Рузвельт предлагал район Средиземноморья, Черчиллю было все равно), он согласился на встречу в Ялте. Де Голль был признан нежелательной персоной, поскольку к теме будущего мироустройства «правители в изгнании» не приглашаются. Черчилль предложил конец января. Сталин пока думал. Рузвельт не сомневался, он готов был отплыть из Америки на корабле ВМФ сразу после вступления в должность.
Он вымотался. Ему нужен был отдых.
По расчищенной от снега дорожке Гарри Гопкинс медленно катил коляску с сидящим в ней Рузвельтом, укутанным в шерстяное пончо. Холодное солнце тускло просвечивало сквозь пелену непогоды. На поляне неприкаянно застыли обмотанные пестрыми гирляндами елки. Ветра не было. С небес тихо спускались влажные хлопья.
– Свежесть, Гарри, – сказал Рузвельт, подняв подбородок. – Какая свежесть.
Навстречу попался чернокожий уборщик. Рузвельт пожал ему руку:
– Привет, Микки. Как супруга, еще не родила?
– Нет, мистер президент. Ждем со дня на день.
Свернули на заснеженную тропку и, обогнув конюшни, вышли на холм, с которого открывался просторный вид на Гудзон. Там остановились. Рузвельт снял шляпу и, закрыв глаза, сделал глубокий вдох. Потом он спросил:
– Что скажете, Гарри?
– По мне, так этот Гровс – большая шельма. Возомнил себя спасителем нации. Выкинул Силарда, как будто это он первым пришел к идее разработки ядерного деления. Но вынужден признать, свое дело он знает.
– Немцы, немцы… они постоянно бубнят о Wunderwaffe… Что там говорил Гровс про своих физиков? Дорогостоящее сборище идиотов и кретинов? В этой сентенции я бы акцентировал слово «дорогостоящее».
Гопкинс сел на скамейку рядом. Посмотрел на профиль Рузвельта. За годы сотрудничества с ним он так и не узнал этого человека. Решения президента почти всегда были энергичны и непредсказуемы.
– Я не предполагал, что положение столь безрадостное. А генерал прав. Нам нужна их бомба. Как говорится, а la guerre comme à la guerre. В драке все средства хороши. Станем охотиться за немецкими физиками.
– Да, но вы запретили контакты с людьми Гиммлера. – Гопкинс закурил, затянулся и механически разогнал ладонью дым от сигареты. – А урановый проект в Германии контролирует СС.
– Вы о Касабланке? Помилуйте, на войне многие решения устраивают до того, как бывают приняты… Да и когда это было, Гарри?
Помолчав, Рузвельт сказал:
– Наверное, надо встретиться с Донованом.
Часть первая. Стоматолог из Ризбаха
январь 1945 г.
Берлин, Панков, 1 января

Берлинский холод – каменный холод: прусский обожженный кирпич, «кошачьи головы» булыжников, «свиные брюхи» шарлоттенбургских тротуарных плит из силезского гранита, отполированная миллионами ног базальтовая брусчатка, чередующаяся с бетонной фридрихштадтской плиткой, – всё выкрашено толстым слоем инея, всё веет безнадежным оцепенением. Холод камня зимой 45-го года смешивался с холодом отчаяния, нависшего над берлинцами тяжелой грозовой тучей. Несмотря на льющиеся из радиорепродукторов бравурные комментарии доктора Геббельса, ощущение надвигающейся катастрофы становилось все очевидней. В самом воздухе, пропитанном мокрой ледяной пылью, трепетало нечто такое, что гасило даже проблеск надежды на светлое будущее.
Впрочем, наступление в Арденнах обеспечило всплеск патриотического энтузиазма. Все только и говорили о внезапном прорыве линии обороны англо-американских союзников в Бельгии 5-й танковой армией генерала фон Мантейфеля и 6-й танковой армией СС обергруппенфюрера Дитриха; с уст не сходили имена фельдмаршала Моделя, оберштурмбаннфюрера Пайпера и, конечно, непобедимого Отто Скорцени, который, переодевшись в американскую военную форму, первым ворвался вглубь территории противника. Поговаривали, что уже окружена 1-я полевая армия США, что она даже и вовсе уничтожена после применения нервно-паралитического газа, что в рукаве у фюрера секретное «оружие возмездия», от которого нет спасения, и оттого-то он так спокоен и непреклонен, что знает, чем отплатить врагу, и что по нынешним временам самый практичный подарок к Рождеству – хороший дубовый гроб.
Яркое морозное солнце первого дня Нового года словно противоречило пасмурному настроению истощенных от постоянного недоедания и холода людей; даже разрушенные бомбардировками здания, предупредительно обнесенные заборами, под покровом искрящегося голубого снега смотрелись не столь катастрофично. Следов Рождества в виде наряженных елок, венков из сосновых веток и светящихся арок швиббоген в окнах домов не наблюдалось – причиной тому были не только условия светомаскировки, но и призыв Геббельса встретить праздник тихо, экономно, воздерживаясь от лишних трат, а с властью немцы привыкли не спорить. Несмотря на то, что уже полгода (видимо, из-за наступления в Нормандии) налеты вражеской авиации носили эпизодический характер, город словно пропитался гарью; запах ее вкупе с канализационной вонью и духом подвальной сырости то тут, то там накатывал тошнотворной волной.
Утром по радио выступил Гитлер. Он давно не выходил в эфир, что породило полные всевозможных домыслов слухи. Вопреки ожиданиям, речь его была бесцветной, голос слабый, тусклый, будто не выспался, а главное – ни слова об арденнской операции. Выступление велось из бункера Адлерхорст, куда Гитлер перенес свою ставку после того, как ему сделали операцию на горле. Большого оптимизма его речь не породила, хотя, как это было всегда, фюрер выразил твердую уверенность в скорой победе германского рейха, несмотря ни на что. «Я был и всегда остаюсь человеком, который знает только одно: бить, бить и бить», – такими словами он завершил эфир, и это было единственное живое место в его выступлении.
Пошел слабый снег. Обычно весьма оживленная, небольшая Экзерцирплатц выглядела застывшей декорацией какой-то безумной пьесы. Сохранилось лишь одно здание городской библиотеки – все остальное вокруг лежало в руинах, к которым привыкли, будто они так и были здесь всегда. От доходного дома остался лишь огрызок в четыре этажа с отвалившейся фасадной стеной, причем на третьем, похожая на сценическую площадку, обнажилась спальня с картинами на стене, широкой супружеской кроватью, трельяжем с замызганным, но абсолютно целым зеркалом и старинным комодом, распахнувшим набитое бельем нутро. Все было покрыто густым слоем пыли. Бог знает, каким чудом комната сохранилась в полной неприкосновенности: казалось, того и гляди, откроется дверь и войдут хозяева. Однако добраться до нее не представлялось возможным: от бомбового удара лестница, ведущая наверх, обрушилась, да и сама спальня буквально висела в воздухе.
Перед выложенной кирпичом ступенчатой оградой, отделявшей развалины кирхи от изрытой снарядами площади, развернулось маленькое представление. Грузный старик в рыжем парике, с клоунским красным носом жонглировал облезлыми цирковыми булавами. Прямо перед ним мальчишка лет двенадцати стоял на руках, выгибался и ходил колесом. Рядом, ужасно фальшивя, пыталась справиться с рождественским гимном Грубера изможденного вида девушка, задавленная висевшим на ней огромным аккордеоном. А впереди, укутанная в шубу и перетянутая платками, крошечная девчушка усердно выводила: «Ночь тиха, ночь свята, озарилась высота». Иногда везло, и редкий прохожий бросал в алюминиевую миску пару-другую пфеннигов. От группы проходящих мимо солдат отделился молодой ефрейтор. Он подошел к девочке, погладил ее по голове и сунул ей в ручку упаковку соленых галет. Девочка поклонилась, не переставая петь.
Медленным шагом площадь пересекали двое не очень старых мужчин, увлеченных беседой друг с другом: один – долговязый, в длинном кожаном пальто, с усами в пол-лица à la Ницше; другой – благообразный, полный, с аккуратными седыми усиками записного соблазнителя, в берете и с тростью.
– Нет, нет и нет, дорогой Зиберт, – говорил тот, что в берете, прихватив собеседника за рукав, – не могу с вами согласиться. Вся культура Древней Греции была антропоцентричной. Человек – вот мерило Вселенной. В человеке отражена сущность мироздания, не так ли? Возьмите Праксителя – его Гермеса с младенцем Дионисом. Или того же Дорифора. Совершенство человеческого тела, эмоциональная сдержанность – разве это не поиск идеального человека? Разве не Бога ищут они в себе?
– Так ведь вы говорите о классической Греции с ее наивным стремлением постичь Божественное в Человеке – чего в нем никогда не присутствовало, – отвечал Зиберт. – Это у них гордыня и глупость, вот что я вам скажу, дружище Леве. При чем здесь эти мускулы, ягодицы, половые органы? Ничего Божественного в нашем бренном теле нет. Вот если бы бе́лки обладали человеческим разумом или, скажем, обезьяны, так они, надо полагать, тоже стали бы искать отражение высшей силы в анатомии своих тел? Да и чем, в сущности, ваш этот Поликтет с Дорифором, которого, кстати, никто не видел, или даже Пракситель отличаются от Торака и Брекера? Та же отстраненность от действительности – Меченосец, Факелоносец, – те же позы, загадочные улыбки. Классика. А вы посмотрите на эллинизм! Тоже Греция. А сколько экспрессии!
– Да где же? Конечно, появился сюжет. Конечно, изменилось мировоззрение – из спокойно-созерцательного оно стало драматичным. Но эмоционально-то, имманентно оно осталось прежним. Вспомните того же Лессинга, его рассуждения о крике боли Лаокоона. В минуту предельного физического страдания лицо Лаокоона не теряет мужественности, величия духа, черты его не обезображены гримасой боли. О ней мы знаем только по мучительно сведенному животу. Даже в трагедии греки остались верны себе! Нет, и в эллинистическую эпоху они не изменили принципу калокагатии, мне это импонирует. Я знаю о вашей любви к римской культуре, но в ней, увы, мало гуманизма.
– Правильно. Потому что Рим всегда был озабочен величием и силой человеческой личности – без всяких там отвлеченных рефлексий вокруг религии, гуманизма. Пришел, увидел, победил. Это трудно понять расам, живущим в диких странах, и тем, кто изнежен утонченной чувствительностью. Калокагатия, говорите? Какой в ней прок?
– Все-таки, как я погляжу, Дитрих, лекции Джона Рескина не прошли для вас даром. А ведь он был чрезмерный англофил.
На перекрестке Данцгерштрассе и Шёнхаузераллее они остановились и стали прощаться.
– Поверьте, Дитрих, несмотря на печальные обстоятельства, это Рождество в вашем гостеприимном доме было для меня одним из лучших в жизни, – заверил Леве, тряся руку Зиберта. – Столько мыслей, столько воспоминаний!.. А ведь мы с вами прожили преинтереснейшую жизнь, а?
– Да, есть, что вспомнить, – кивнул Зиберт. – Приятно, что годы нашей работы в Институте физики не прошли для вас даром. Я искренне жалел о вашем отъезде из Германии. Не в добрый час вы приехали сюда, Эрик, не в добрый час.
– Я никогда не отказывался от германского паспорта. Просто согласился преподавать в Цюрихе. А теперь вот проблемы с поместьем отца…
– Я понимаю, понимаю… Значит квартирку вы сняли здесь, в Панкове?
– Да, временно. А там посмотрим.
– Ну что ж, тогда жду вас в субботу. Придут мои друзья, коллеги. Я вас кое с кем познакомлю.
Пожав друг другу руки, они разошлись в разные стороны. Леве, поигрывая тростью, бодро зашагал вниз по Шёнхаузераллее и через пару домов свернул на узкую Хоринерштрассе.
Спустя пару минут раздался выстрел. Потом еще один. Потом всё стихло.
Тело обнаружили хорватки из вспомогательной службы ПВО, спешившие на работу. Из районного отдела криминальной полиции довольно быстро прибыл инспектор в сопровождении помощника – юного обершарфюрера, который мгновенно взмок от одного вида окровавленного покойника. Обыскав карманы, инспектор нашел разрешение на проживание в Швейцарской Конфедерации и удостоверение преподавателя Цюрихского университета, а также кеннкарте на имя Эрика Леве. Посчитав, что преступление заслуживает более высокого уровня расследования, инспектор поставил помощника сторожить труп, а сам отправился в отдел, чтобы позвонить в центральный аппарат крипо.
Дежурный офицер на Вильгельмштрассе, где размещалось Управление V Главного управления имперской безопасности, принял сигнал из Панкова и отнес напечатанное донесение в Бюро VB, занимавшееся серьезными насильственными преступлениями.
– Черт бы вас побрал, первое января же! – с досадой рявкнул пожилой криминалрат Кубек, одетый в сидевшую на нем мешковато форму штурмбаннфюрера. – Вчера гестапо таскало на какую-то облаву, сегодня – это!
Вид он имел изможденный, нос покраснел, глаза слезились.
Дежурный пожал плечами и удалился. Криминалрат несколько минут сидел неподвижно, положив лоб на раскрытую ладонь, потом вздохнул, еще раз чертыхнулся, сгреб со стола кобуру с пистолетом, запер дверь и пошел по длинному, пустынному коридору. Людей не хватало хронически. Мало того что гестапо все чаще использовало криминальную полицию в своих акциях, особо не считаясь с чужими приоритетами, так еще и штаты крипо постоянно таяли – фронт выметал тех, кто помоложе. В какой-то момент оказалось, что уголовным расследованием занимаются сплошь старики и инвалиды.
– Слушай, Вилли, – сказал Кубек, входя в кабинет своего сослуживца Вилли Гесслица, – давай сгоняем в Панков. Мне как-то одному не хочется.
Гесслиц, большой, грузный, как медведь, ссутулившись, сидел за письменным столом спиной ко входу. Он повернулся:
– А что там?
– Убийство. Труп лежит поперек улицы и ждет, когда мы с ним побеседуем.
– А почему мы? Районное.
– Они уже были. Говорят, какая-то шишка. Им не по рангу.
Гесслиц коротко кивнул и стал собираться. Кубек высморкался в несвежий платок, покачал головой:
– Ну и накурил ты. Дыму – хоть стены им крась. Форточку бы открыл. Гиммлер запретил курить в помещениях.
– А ты ему не говори, – буркнул Гесслиц.
– Я-то не скажу. А вот птичка – с хвостиком такая, знаешь? – она может.
– Ты поведешь?
– Могу я.
Гесслиц бросил ему ключи от машины, и они пошли к выходу. Еще в начале войны Гесслиц получил ранение в ногу и с тех пор прихрамывал, однако в последнее время хромота сделалась особенно заметной, что, впрочем, не мешало работе.