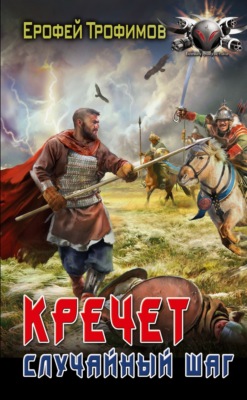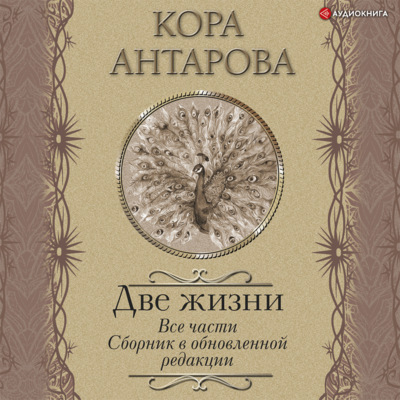Kitobni o'qish: «Тираннозавр»
Один
Когда О читает записку, его сердце блюет кровью. Но некуда, артерии не выдержат больше. Смяв, он швыряет листок. Прочь. Как если бы это была скользкая рыба, страшно-благоухающая гнилью. Бросает насколько возможно дальше. Как швыряют на ветер слова, когда обещают.
Ужас дырявит сердцу горло. Нечем дышать. Дышать нечем. Испуганной судорогой О бежит к окну. Ручка не поддается. Только дергается нога. О забыл, в какую сторону нужно поворачивать. Едва не сломав, он открывает окно и выбрасывается в него по пояс. Чуть не выпал. Лучше выпал бы.
Ранний ветер обдает иглами лицо. Ужасу узко в глазницах. Он бежит погулять по двору. Налево. Направо. Ввысь. Утро. Рассвет. Деревья спокойно стоят где положено. Хватаются, как могут, корнями за почву. Их листья умиротворенно загорают в липкой тени редких лучей. Затекшие кровавым отсутствием сна белки пытаются удержать тревожные зрачки. Им удается.
Круглые глазные вороны перестают летать. Успокаиваются. Садятся на ветви тихих деревьев и одиноко каркают. О еще дышит глоткой. Глупо. Очень глупо. Глубоко. Ведь это всего-навсего листок бумаги. Он же не убьет? О вползает обратно в комнату. Но окно не закрывает. Так спокойней.
Неуверенная медленность лунатика. О шагает в сторону, где это должно валяться. Должно́. Но валяется ли? Он еще не видел бумажку. О не поворачивался. Ему ведь придется, О знает. Как и придется каждый день просыпаться. Вот он. Глаза столкнулись с листком. О заблудился в поступках.
Застыл. Мгновенье. Нет-нет, надо поднять. Я подниму его. Я один. То ли он приближается к листку, то ли это листок ползет к О по полу. Как во сне. Как страшно. Колени тревожатся. О поднимает смятый бумажный клочок, почему-то послушно лежавший на потертом паркете. Разворачивает согнутые белые крылья. Листок говорит лишь единственное: «Ты не один». Нет, бумага не может разговаривать. Это О читает. И все. Только эта фраза.
Чей-то выдох в затылок. Зазудела кожа. Нечто стоит позади. О оборачивается. Резко. Быстро. Вокруг. Комната тихо покоится в привычных четырех стенах. Нет. Ничего. Ты один. Почерк кривой, незнакомый. Но пугает не надпись. Не только она. Больше нацарапанный смайлик с белой кожей, улыбающийся с листка.
Его пристальные шипы-глаза-точки слишком глубоко колют в глаза. Кажется, вот-вот с них покатятся слезы. От уродливой улыбки по спине и ногам расползаются мурашки. О не убирает свой взгляд. Ищет подсказки. Смайлик. Что это должно означать?
Вдруг за окном заорало авто, истязающее дорогу. Звук выпихнул О из самогипноза. Вывернул наружу взгляд. Листок дрогнул. О отвлекся. Глаза заползали по комнате в поиске мысли. Еще есть время. До начала рабочего дня. До работы и после – одно и то же. Спать не получалось, не получается, не получится.
Письменный стол. Так О его называет, чтобы не упоминать лишний раз слово “работа”. Он-то и нужен О. Уже не первый месяц. Два? Три? Полгода? О слышит. Этот. Это. Пф-ф-ф. И потом О приходится бежать с кровати. Иди куда-то ночью, но ему некуда пойти. Все дороги ведут домой.
О не спал три дня,
а кажется,
что он всю жизнь
и каждый день
не спал.
поговорить об этом не с кем.
говорить.
сказать слова.
услышать пару слов в ответ —
это можно сделать,
но это не беседа,
это ничто – в никуда.
О купил пару тетрадок. Симпатичных и ярких, как девушки. Чтобы начать вести дневник. Хоть как-то разобраться, что происходит. В университете это неплохо помогало О справляться с жизнью. Не теряться в событиях.
О вползает за стол. Он первый раз пробует. Тяжело говорить. О себе. С собой.
Комната облокотилась на его спину. Она мала, как истлевшая спичка. Старая широкоплечая люстра не вмещалась в потолок. Она глядела на О, как парящий ястреб, и часто пугала его своей плотной тенью. О снял эту людоедскую люстру. Аня была не против. Они решили купить что-нибудь покрохотней. Их несбывшееся решение так и осталось висеть с бледного потолка – лампочной кишкой на неперерезанной вене-проводе.
Помимо нее там низенький столик со стулом. Матрас. Небрежно хламящиеся стопки одежды и коробки с вещами на голом полу. Аня хотела, чтобы эта квартира жила. Питалась. Росла. Радовалась. Аня пыталась сделать ее живой. И не только ее.
После того как она уговорила О отнести страшный долговязый деревянный шкаф советских времен, стоявший в углу, как шпион, на помойку, они задумали ремонт. Удивительно, но О это нравилось. Нет, не удивительно. Ему всегда это нравилось. О хотел бы все это. Но раньше он сам, а теперь слезы не позволяют. Все, хватит.
Ремонт начался. О выкинул старый стол, несколько дырявых стульев с кухни, ужасный раскладной диван, а главное, икону Божией матери и ковер, висевшие на стене. Их он ненавидел больше всего. Однако, с тех пор как умерли родители, почему-то никогда не задумывался о том, чтобы избавиться от воспоминания.
Комнату заполонила пустота. Заполонила, но так и не ушла. Аня. На скопленную горку им удалось купить новенький столик с парой стульев, матрас, все необходимое для покраски обнаженных стен. Аня настояла на умиротворяющем светло-медовом цвете.
О сразу приступил к покраске, но. Было уже поздно. Мед так и не лег на все решетки камеры заключенного. Глаза остро печалила наполовину покрашенная стена, у которой лежал матрас. Нежно-желтый цвет крался уверенным мазками, пока резко не падал в бледно-серый оттенок выцветшей части стены.
Но как безобразна ни была бы комната, О нра. ненавидел ее. Промокшая невыносимой отчужденностью. Сухая, как срок в колонии. Она еще, бывало, вызывала покой. Казалась уютной. Ее размер – единственный плюс. Не страшно сидеть в тесноте. Хотя как сказать? Было не страшно до недавнего. За окном еще более жуткие вещи. А это единственный дом. Другого нет. Дом не выбирают. Никто не выбирает ничего.
Пальцы по-прежнему стучали по тетрадке. Не зная, с чего начать, О начал:
Я не сумасшедший. Я уверен. Это бред. Это чушь полная. Но я не могу все игнорировать. Это ни к чему хорошему не приводит. Вообще ни к чему не приводит. Ни к чему. Все становится только хуже и хуже с каждым разом. Сначала я думал, мне кажется. Потом делал вид, что мне кажется. Теперь мне не кажется. Что-то происходит. Если можно было бы хоть с кем-то поговорить, стало бы проще. Но с кем? Аня?
На этом слове О повисает в печальной невесомости. Слезы уже накрапывают. Но он резко останавливает их сжатым указательным пальцем. Нет. Не с кем. О вычеркивает слово.
Его сердце еще смотрит на имя, хоть ручка и перерезала воспоминание пополам. Нет. Пунктира недостаточно. Он замалевывает его, чтобы даже очертания не расстраивали глаза. Сквозь – дальше.
Нет. Не с кем. Хорошо, что можно говорить хотя бы с собой. Перед собой ты ни в чем не виноват. Только если не совесть… Совесть. А может, ты виноват всегда только перед собой? Неважно. Что мне известно? Нужно наконец собраться и разобраться в этом! Если ты сам себе не поможешь, – никто не поможет.
О подчеркивает и выделяет это предложение.
Нужно помнить, что чем больше ждешь, тем меньше остается ждать. Так говорят. Но куда еще, если вся жизнь – одно огромное ожидание? Я пробовал. Оно не уходит. И, видимо, никогда не уйдет. Людям проще, когда они разговаривают. Это точно. Ужас в том, что никто неспособен понять никого. Это невозможно. Если бы я сказать про это. Кому интересно? Покачали бы головой. Это полная чушь. О чем говорить? Никто не спросит. Никто не увидит во мне перемены, потому что никто меня не видит. Я свободен в комнате метр на метр, пока не наступает ночь. Мне тяжело, я. На самом деле я хочу, чтобы меня видели. Ну вот, так и знал, что не смогу написать об этом. К чему все эти сопли? Страница уже закончена, но ни слова о том, зачем она была написана. Это удивительно, я боюсь признаться не только другому, но и самому себе. В чем мне признаваться? Что я слышу что-то за стеной? Много кто что слышит. Но не такое. Это не просто звук. Кажется, что звук только часть чего-то целого, чего-то большого. Деталь. Это не звук. Звуки не могут быть такими жуткими и невыносимыми. Стены, потолок, чувства, этот скрежет и то, что происходит – все это части единого. Почему это так сложно писать? Почему? Как об этом разговаривать? Я пытался рассказать об этом уборщику. Его совет – психиатр. Больше мы не общались. Где достать на это деньги? Заключить контракт, найти щедрого клиента. Тогда можно будет об этом подумать. Если пойти с этим в государственную клинику, мне поставят диагноз. Как тогда работать? Забавно, я думаю, люди вроде меня умирают не из-за старости, а из-за отсутствия денег. А что еще? Позвать батюшку? Чтобы он тут все освятил? Ну и хрень. Чушь. И все равно нужны деньги. И все же я не сплю. Не знаю, что хуже: умереть или не спать. Почему оно просто не убьет меня? Тогда высплюсь. Адекватен ли я? Я никогда бы не поверил, что сходить с ума это так страшно. Это ужасно. Кажется, вот-вот, еще чуть-чуть и все. И ты будешь страдать еще больше, но уже ничего не сможешь с этим сделать. Будет уже поздно и никакого контроля. Сходить с ума очень больно. И все, что происходило, можно было бы объяснить галлюцинациями, но записка. Говорят, если чувствуешь, что сходишь с ума, значит, не сходишь. Что тогда с запиской? Она ведь настоящая? А еще говорят, если тебе кажется, значит, не кажется. Я трогаю ее, держу в руках, чувствую. Если я сейчас уйду, а затем вернусь, бумажка останется лежать здесь, на этом столе, где я ее оставил. Кто ее написал? Кто?
Вдруг О понял, что делать. Он дернул листок за шиворот и пригвоздил его пальцем возле тетрадки. Почерк. Мой или нет? О пропахал взглядом почти каждое слово на тех страницах, что успел написать. Нет. Не мой. Если так, то все остальное тоже может быть правдой. Нужно идти на работу, иначе босс будет в ярости.
День. Душный душ. Дождь так и не пошел. Только черно-синие синяки-тучи, недвижимо сидящие на небесном потолке. Как будто кто-то дал небу в рожу. Но ни одной капли. Ни одной лужи. Воздух задыхается. Тучи не выпускают жар наружу из засаленного помещения города.
В газовой камере: птицы и люди. Единственное красивое место в концлагере – это небо. Последняя связь со свободой и прекрасным. Но что, если на небе нет неба? Только заплесневелые бугры висящего в воздухе снега. Отобрав у заключенного небо, ты отберешь его свободу.
Что может быть ужаснее для человека лишенного сна, чем жара и работа, которые он ненавидит? О пытался, как мог, отсыпаться на своем месте. Нет-нет, не пытался. О. пытался работать, честное слово, но все равно засыпал. Пока тиранический крик начальника объяснял, что так нельзя. Так жить нельзя. Надо звонить. А то…, ты же знаешь? Выговоры. Вычеты из зарплаты. Увольнение.
О уже ничего не страшно. О боится всего. Того, кто не спит, – не напугать, он и так живет только во сне. В кошмаре.
Выкатив вместо глаз свое обаяние. Со всевозможной внимательностью. С усыпляющим лизанием самолюбия. Сотрудники выслушивают то, что им неинтересно. Ежедневные напутствия шефа. Каждое слово они знают наизусть. И даже манеру, с которой оно будет сказано. Чаще всего: ударом в нос посреди сна. Неожиданно, но заезженным словом.
О не мог смотреть на начальника. Вся эта агрессия вызывала тревогу и душила дыхание. О постоянно кружил своим взглядом, пытаясь найти середину между чуткостью и безразличием. Только бы не смотреть, только бы не видеть его, иначе можно сойти с ума. Но начальник ловил глаза-беглецов. О, НА МЕНЯ, смотри НА МЕНЯ. Где ты летаешь?
Сколь новым не был бы ремонт, маленькое помещение с тьмой рабочих столов, – плечом к плечу – стационарных телефонов и несколькими десятками сотрудников было гробом. Бизнес-склеп премиум класса с кучей уродов, захороненных в нем. И весь потолок в камерах, сканирующих душу. Сидят по углам, как гигантские кровожадные мухи. Ни одному миллиметру гроба не избежать их раздевающих глаз.
Приталенные улыбки. Костюмчики-радуга. Модная мода. Побольше помады. Карманная расческа. А как ты хотел? Хочешь обманывать? – Ну так надо уметь! И все трупы – с надеждой на лучшее. Стать толстосумами. Чтобы кошелек был такой же жирный, как брюхо. Надеть на себя вещи. Всем надо денег. Все бедные.
Лизоблюдство всех блюд, и не только. Если придется, – каждый готов идти на многое. Вся прочая добропорядочность, с умыслом натянутая на самолюбовь их лиц. Услужливая услужливость. Да, они психопаты и ублюдки. Но для всех них эта работа – единственное возможное будущее. Последняя соломинка, которую не только нужно облизать и положить в рот, но, если потребуется, и сунуть куда положено.
А что еще остается в стране, которая ничего не производит? В мире, который производит лишь ложь? С такими людьми не то что работать, пускать параллельную струю в сортире – не хочется. Однако, другого места О не нашел. А смысл слова голод понятен без словаря.
Шеф плывет перед глазами. Как китайский дракон на красивых картинках. Только шеф не красивый. Кажется, у начальника нимб. Нет, это его новые очки. Он как-то невероятно высок, хоть и низок. Неестественно большой. Начальник распластался и разлился по помещению костюмным жиром. В сравнении с ним работники, как сверчки в своем черноземе на стульях. А все происходит, как и должно, – как школьный урок. Так нет, он и есть – школьный урок. Только вместо учителя стоит отморозок.
О не может сконцентрироваться. Ему видится, будто шеф застрял в воздухе и медленно растекается по близлежащему пространству. Точно дух какой-то на пейзаже художника.
Глаза О слезятся. Веки коллапсируют и схлопываются. Сами собой. Падают, падают, падают. О уснул во сне. Мысли, как бабочки. Живут один миг и думают только о записке. Жирные, толстобрюхие бабочки, ползающие по полу, потому что нет воздуха. Окно. Где же окно? Почему, почему никто не откроет? Взгляд О прилип к стеклу и был промазан по нему со звуком, от которого мурашки. Панорама. Зачем? А там же воздух гуляет на свободе… Почему я не воздух? Душно.
Шеф закончил было свой нерукотворный урок и приготовился лакомиться вопросами. Плоскими песнями орало на фоне всего этого радио, делающее тошноту тошнотворнее. Шеф закричал:
– А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ МНЕ ПЯТЬ ЭТАПОВ ПРОДАЖ!
УДАР В КОЛОКОЛЬЧИК. Этот колокольчик. Сколько его можно бить? Руки каждого набрасываются на начальника, зверино вскакивая со стульев. Это не опечатка и не смысловая ошибка. Руки вскакивают со стульев, блюя слюной, и пытаясь пощупать свою луну. Заветная фантазия прозрачных людей – внимание начальства. Говорят, если полизать сладкие сопли ублюдков, тоже станешь ублюдком. Будешь крутой, как урод. Вот оно что.
Шеф похвалил команду за рев.
– А ну-ка, все вместе!
Не девственный хор забеекал в ответ:
– Знакомство!
– Так!
– Выявление потребностей клиента!
– Так?!
– Презентация!
– Ага!
– Работа с возражениями!
– И-и-и-и-и-и!
– Завершение сделки!
– И завершение сделки! Так точно! Именно! Вот наша цель! Вот, что нам нужно!
Оргия голосов на рынке премиум класса. Молодые бабки мужского пола. Все это время О просто шевелил ртом. Он уже стал своего рода мастером шевеления ртом. Но О не удержался и застрял в широко-сладком зевании, так что он еще больше прослезился. Шеф сразу подметил это хамство, эту дерзость, это личное.
– О, – крикнул внезапно шеф, – расскажи-ка нам главные правила процесса продаж, хм?
О оторопел. Он еле ухватился за тут же ускользающий из памяти вопрос и стал бормотать заученные фразы:
– Так, ну, это последовательность…
– Строжайшая, точная последовательность этапов! Именно! Будь точен и уверен, О, иначе клиент не воспримет тебя всерьез! Что еще?
– Адаптация… под клиента…
– Правильно! Ещё?
– Пффф, не пропускать этапы…
– Верно, если пропускать этапы, ничего не выйдет! Дальше!
– А-а-а-а, я… хмм… не знаю, не помню.
– Полное выполнение! Это полное выполнение! Напиши себе на лбу, чтоб не забыть!
Как хорошо, что начальник остановился на этом. А не перешел к А НАРИСУЙ-КА НАМ ГРАФИК.
Владыка оглянул всех детей своих.
– Вот видите, даже такой ужасный сотрудник, как О, может назвать хотя бы три из четырех правил процесса продаж! Правда, это не мешает ему быть неудачником, да?
А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Умора, просто, невозможно.
– Многие из вас, кто только пришел в нашу команду, небось, спрашивают себя: “А кто вообще такой, собственно, этот О?” А О – это наш давний сотрудник, не заключивший, насколько мне помнится, ни одной сделки.
Вытянутая рука шефа бьется в судороге.
– Ну там была, наверно, одна какая-то на ничтожную сумму, а в остальном…
Рука пренебрежительно выброшена в зал.
– И зачем я держу тебя здесь, а?
Чтобы было на кого срываться и из-за неукоснительного выполнения статистики.
– Ладно, не будем о грустном! Просто не будьте, как О, и у вас все получится! За работу!
УДАР В КОЛОКОЛЬЧИК. Это ублюдский, сука, удар в колокольчик. Под истерику радио каждый украл со стола по телефону. Глотки заорали адским ульем в трубки. О, да! Блаженство! Да! Да! Да! Деньгиги! ДЕНЬГИ. Это то, что нам надо! Обворовывать стариков! Омерзительно-деньги.
О идет по списку номеров. Гудок. Ало, добрый день, это Ирина Андреевна? Да. Я звоню вам из… Сброс. Гудок. Речь. Сброс. Гудок. Слова. Отказ. Гудок. Дыхание в трубку. Гудок. Ало? Время елозит в грязи, сворачивается в трубочку. Ало. Добрый день. Время идет. Куда? О становится плохо. Все хуже. Дышать. Попить. Попить. Но прикол пустыни в том, что в ней нет воды. Ало. Ало. Гудок. Ты не один.
О ничего не заметил. Он просто звонил. Звонил и звонил, как вдруг оказался на полу. Первым, что он увидел, было бардовое лицо шефа, допытывающе-крупное, уродливое лицо. Он был слишком, слишком, слишком близко. О стошнило в мозг.
Клоунская обувь. Растопыренные кинжальные носки туфель. Выброшенное за борт пузо. Отвратительная поза ублюдка. Рядом медицинский работник, осуждающе-напыщенным взглядом харкающий в О. Со всех сторон глазеют молодые дамы и господа.
Вроде бы очнулся. Этот очнулся. Придурок. Да, вот он. – Защебетали свиньи в грязном воздухе.
– Что это со мной? – Невинно роняет О.