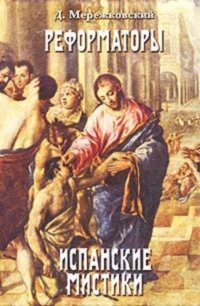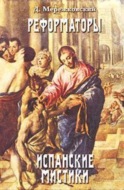Kitobni o'qish: «Кальвин»
I. Кальвин и Лютер
1
«Если бы даже он назвал меня диаволом, я все-таки почтил бы его как великого слугу Божьего», – говорит Кальвин.1 «Я радуюсь тому, что Бог посылает нам таких людей, как он, чтобы нанести папству последний удар и кончить с Божьей помощью то, что я начал делать против Антихриста», – говорит Лютер о Кальвине.2 Судя по таким отзывам, они любят друг друга, как братья. Но есть и другие отзывы:
«Он3 грешит не только гордыней и злоречием, но и невежеством и гнуснейшими суевериями», – пишет Кальвин ученику Лютера, Мартину Буцеру (Buсеr), в 1538 году,4 и в 1540 году – другому ученику его, Филиппу Меланхтону: «Ты жалуешься на вспыльчивость и слепую нетерпимость Лютера, но не должны ли эти недостатки его день ото дня усиливаться, если все дрожат перед ним и уступают ему во всем?»5
Лютер не обманывается добрыми о нем отзывами Кальвина: «Я надеюсь, что он будет некогда лучше думать о нас».6 Это значит: «Думает обо мне сейчас нехорошо». Так же не обманывается и Кальвин добрыми о нем отзывами Лютера; знает, что бывают такие минуты, когда он считает его «диаволом».
Кальвин и Лютер – два сросшихся и вечно враждующих близнеца – Авель и Каин. Может быть, они хотели бы убить друг друга, но срослись спинами так, что не только друг друга убить, но и в лицо увидеть друг друга не могут.
2
«Кальвин спас дело Лютера», – утверждают ученики Кальвина.7 Но спас или погубил – это еще большой вопрос. Кальвин и Лютер противоположны и взаимно-диаметральны: Кальвин – Лютер в действии, а Лютер – Кальвин в созерцании. Может быть, в этом не случай, а «Предопределение» Реформы.
Кальвин пришел на готовое. «Я рожден для того, чтобы бороться с бесчисленным множеством чудовищ и диаволов», – говорит Лютер. «Мне нужно выкорчевывать деревья, выворачивать камни, пролагая новые пути в диких чащах лесных».8 Кальвин пойдет по этому расчищенному Лютером пути.
«Истинный глава Церкви – не Папа, а Христос», – в этом Кальвин повторяет Лютера с точностью, но дальше не идет.9 Повторяет и ошибку его: «Папа – Антихрист». Но в устах Кальвина это уже пустые, не только для Рима, но и для самой Женевы не страшные слова.
Лютер подчиняет Церковь государству. Если бы это так и осталось, то когда государство отпало от христианства и сделалось, как в наши дни, языческим или даже антихристианским, то самое понятие Церкви исчезло бы с лица земли. Кальвин, как думают ученики его, утвердил самостоятельное, от государства независимое и даже господствующее над ним бытие Церкви и этим ее будто бы спас.
Лютер отказался от видимой Вселенской Церкви; Кальвин ее утвердил. «Церковь есть общество предопределенных к спасению, избранных, praedestinati, electi… достигающих Царствия Небесного через видимую Церковь».10 У Лютера, в конце концов, дело спасения только личного, все еще «монашество»; у Кальвина будто бы от начала до конца – дело спасения личного и общего вместе. Нет никакого сомнения, что сделать это Кальвин хотел, но сделал ли – это опять-таки еще большой вопрос.
Кровью не исходит сердце Кальвина от разрыва с Римской Церковью, как сердце Лютера, и в этой ожесточенной, окаменелой сухости сердца Кальвин дальше от Вселенской Церкви, чем Лютер. «Я тоскую, как дитя, покинутое матерью», – этого Кальвин не мог бы сказать вместе с Лютером о бывшей Римской Церкви, а значит, и о будущей Вселенской.11 «Мы12 предлагаем вам13 сделать все, что нужно для восстановления мира в Церкви», – Кальвин не мог бы сказать и этого, ни даже почувствовать, вместе с Лютером.14 Лютер – «ходатай», «молитвенник» за Римскую Церковь, но не Кальвин. «Никакие заблуждения Римской Церкви не дают нам права от нее отделиться, ибо она есть Церковь Апостолов и Мучеников», – говорит Лютер в самом начале дела своего, а в самом конце его, в Аугсбургском Исповедании, скажет Меланхтон, ближайший ученик Лютера: «Мы будем верны Христу и Римской Церкви до последнего вздоха».15 Кальвин не мог бы и этого сказать, ни даже почувствовать, вместе с Меланхтоном и Лютером.
«Надо быть в Римской Церкви, чтобы спастись; надо уйти из Римской Церкви, чтобы спастись», – этой терзающей антиномии, необходимой для того, чтобы войти в будущую Вселенскую Церковь, Кальвин совсем не знает.
3
Бешеными конями Лютера уносимую телегу Реформации Кальвин затормозит на самом краю пропасти – Революции. Буйство Лютера – furor teutoniens – Кальвин утишит и усмирит.
О глубокой, метафизической противоположности двух религиозных опытов – Лютера и Кальвина – лучше всего можно судить по отзывам о книге Иоганна Таулера «Германское Богословие», «Theologia Germanica». «К милости призывает Таулер великих мира сего, а народ – к свободе». Это главное для Лютера – то, что делает книгу эту «равной Святому Писанию», а для Кальвина это «чума» и «смертельный яд».16 Именно здесь, в религиозном опыте свободы и Закона, главная причина убийственной вражды между двумя сросшимися близнецами – Лютером и Кальвином – Авелем и Каином. Но сами они этого не сознают. Главная движущая сила Лютера – «согласная противоположность», антиномия Закона в Отце и Свободы в Сыне – не существует для Кальвина.
Воля к народности у Лютера, а у Кальвина – к всемирности. Кальвин первый освободит Реформу от того исключительного духа германской народности, которым вся она пропитана у Лютера.17
«Я для моих немцев рожден; им и хочу послужить»,18 – говорит Лютер, а Кальвин ему отвечает: «Главное, что мы должны помнить и к чему должны стремиться, – к Богу привлекать все народы земли, чтобы они единодушно поклонялись и служили Ему».19
Против начинающегося и все растущего умножения и раздробления Церквей Лютер бессилен, а Кальвин силен или, по крайней мере, хочет быть сильным. Воля его ко всемирности и есть воля к единству.
4
Может быть, одновременность двух Реформ – одной вне католической Церкви, другой – внутри – тоже не случай, а «Предопределение». «Общество Иисуса», «Compañia de Jesú», утверждено папою Павлом III в 1540 году, в самый канун Женевской Теократии. Вообще все дело св. Игнатия Лойолы – как бы «предопределенный», providentialis, ответ на дело Кальвина – эхо, повторяющее внешние гулы мира под внутренним куполом Рима.
Если в одном, более внешнем, историческом порядке два сросшихся и вечно враждующих близнеца – Кальвин и Лютер, то в другом, более внутреннем, религиозном порядке два таких же близнеца – Кальвин и Лойола. Три глубокие воли соединяют их, скрещивают. Первая воля – к спасению не только личному, но и общему. «Я не хотел бы умереть сейчас, если бы даже был уверен в вечном блаженстве, – говорит Лойола ученику своему, Лайнецу. – Я хотел бы раньше докончить дело мое».20 Это мог бы сказать и Кальвин, а Лютер не мог бы. Благочестие Кальвина так же, как Лойолы, есть подвиг воина, готового сражаться, страдать и умереть за «славу Божию». Soli Deo gloria, «Богу единому слава» – у Кальвина; «К наибольшей славе Божьей», Ad majorem Dei gloriam, – у Лойолы. Оба они произносят эти два слова – Gloria Dei – одинаковым, благоговейно трепетным голосом. «Слава Божия» значит для обоих «Царство Божие» не только на небе, но и на земле. «Церковь Воинствующая», Ecclesia militans, – большая для них обоих действительность, чем «Церковь Торжествующая», Ecclesia triumphans, Иисус для Лойолы, в «Духовных упражнениях», не столько Царь Небесный, как Полководец Христов. «Помните всегда, что вы – солдаты в войске Христовом и что вы дадите ответ вашему Военачальнику в том, как вы исполните ваше святое призвание».21 Это говорит ученикам своим Кальвин; то же мог бы сказать и Лойола. Каждый человек для них обоих – воин, сражающийся в одном из двух вечных станов – Бога или диавола. Но «Промысел» не Божий (есть, увы, и такой) заключается в том, что эти два войска – одно, идущее за Кальвином, а другое – за Лойолой, – вместо того, чтобы соединиться против общего врага, будут сражаться и друг друга истреблять во славу не Бога, а диавола.
Кажется иногда, что эти два великих полководца, Кальвин и Лойола, посланы в мир «диавольским Промыслом», «Предопределением», praedestinatio diaboli, для наибольшего разделения, разделения Церквей, именно в ту минуту, когда с наибольшею ясностью поставлен перед человечеством вопрос о будущей Единой Вселенской Церкви.
Вторая общая воля Кальвина и Лойолы – к порядку.
«Целью нашей да будет слава Божья и прекрасный порядок», bel ordre, – завещает Кальвин, умирая; то же мог бы завещать и Лойола.22 Та же у обоих disciplina; тот же латинский гений Порядка, Правила и Упражнения. Этот «прекрасный порядок» покупается у обоих такою же страшной ценою свободы: «Будь послушен, аки труп», «perinde ас cadaver».23
Третья общая воля их – ко всемирности.
«Царство Господа нашего, Иисуса Христа, да умножится в отдаленнейших землях», – завещает Кальвин; то же мог бы завещать и Лойола. Проповедь и власть Иисусова Общества – от Европы до Китая и Бразилии. Там, на краю земли, у Антиподов, встретятся два Иисусовых Общества – воинства – Лойолы и Кальвина, чтобы сразиться за власть над миром.
Можно бы поставить рядом на площади Святого Петра два памятника – Лойоле и Кальвину, потому что, явно и вольно враждуя, тайно и невольно согласуясь, оба они служат одной и той же вечной воле Рима в трех главных действиях его – в спасении не личном, а общем, в осуществлении порядка и в установлении единства под властью Рима:
Римлянин, помни завет быть владыкою мира.
Tu regere imperio, Romane, memento.
5
«Все это дело – только шалость маленького бесенка, едва научившегося грамоте, – скажет Лютер о „Царстве Божием“, Теократии в городе Мюнстере. – А если даже это – дело самого Сатаны, великого и премудрого, то все же скованного Божьими цепями так, что он не мог действовать с большею ловкостью. Так остерегает нас Бог, прежде чем дать свободу такому диаволу, который нападет на нас уже не с азбукой, а со всей своей наукой. Если такой беды наделал диаволенок-школьник, то чего не наделает сам высший Сатана, ученый и премудрый богослов?»
Мюнстер есть мнимое Царствие Божие, действительное царство диавола – сумасшедший дом, смешанный с домом терпимости, где Иоганн Лейденский, Ганс Боккальд, подмастерье портного, актер и всесветный бродяга, муж семнадцати жен, объявляет себя «Царем Христом». Только что пал Мюнстер, в 1535 году, как в 1536 году восстает Женева. Как бы в двух наглядных картинках, диавол показывает людям, как может осуществиться на земле, в исторической действительности, проповеданное Евангелием Царство Божие. Делаются одновременно две одинаково жалкие и страшные попытки осуществить это Царство – в Мюнстере, человеческим безумием, а в Женеве – человеческим разумом. «Предопределение» Реформы, может быть, сказывается в одновременности и этих двух попыток. Два близнеца, сросшихся в личном порядке, – Кальвин и Лютер, а в порядке общественном – Женева и Мюнстер. «Маленький диаволенок-школьник, едва научившийся азбуке», действует в Мюнстере, а в Женеве – кто? Не сам ли «высший Сатана, ученик и премудрый богослов», – Кальвин? Этот вопрос мог бы задать себе Лютер.24
«Богу единому принадлежит власть над этим народом, – говорит Кальвин в самом начале своего церковно-государственного дела в Женеве, и в самом конце, уже перед смертью, скажет верховным правителям города: – Бог да будет нашим единственным Правителем и да принадлежит Ему всякая над нами власть».25 «Если вы хотите, чтобы Бог сохранил вашу республику в том благополучном состоянии, в каком она сейчас находится, то больше всего храните то место, которое Он в ней избрал, – святую Церковь – от всякого пятна и порока, ибо Он сказал, что почтит тех, кто Его почитает. Он один – великий Бог, Царь царствующих и Господь господствующих, и нет иной власти, кроме Него».26
«Как в человеке есть две управляющих силы – одна для души и для вечной жизни, а другая – для тела и для жизни временной, так должны быть и в мире две власти – государство и Церковь. Две эти власти никогда не должны смешиваться, потому что сам Бог их разделил», – учит Кальвин.27 Но Церковь от государства он отделяет только в отвлеченном умозрении, а в жизненном действии смешивает. Он вообще говорит одно, а делает другое; это надо всегда помнить, чтобы понять его как следует. Власть государственная – такой же для него «Порядок Божественный», ordo Dei, как власть Церкви.28 Этот сплав государства с Церковью есть небывалый во всемирной истории опыт.
«Власть государственная столь же необходима людям при их государственных немощах, как хлеб, вода, воздух и солнце». Но все-таки высшая власть принадлежит не государству, а Церкви; Церковью государство поглощается. В противоположность Римской теократии, где Церковь снижается до государства, в теократии Кальвина государство возвышается до Церкви.29
6
Ветхий Завет отменяется Евангелием. «Ветхий Завет порабощает, а Новый – освобождает».30 Так опять-таки в отвлеченном умозрении Кальвина, а в жизненном действии иначе. «Откуда почерпнул свое учение Христос, как не из Моисея? Все, что есть в Евангелии, взято из Закона».31
«О, если бы вы могли увидеть, как ваше Евангелие искажено Ветхим Заветом!» – глубоко и верно скажет Михаил Сервет, сожженный Кальвином «еретик».32 В самом деле, если не в умозрении, то в действии, Кальвин превращает Новый Завет в Ветхий, христианство – в иудейство: новое вино вливает в старые мехи: мехи разорвутся, и вино пропадет.
Хуже нельзя истолковать слово Господне: «Не знаете, какого вы духа», – чем это делает Кальвин: «Когда ученики хотят низвести огонь с неба, как Илия пророк, чтобы казнить Самарян, то Господь не говорит, что ревность их не та, что у пророка Илии».33
Кальвин – второй Моисей, осуществляющий Евангелие по скрижалям Синая. В Женевской теократии государство – царь Саул, а Церковь – священный Самуил. В «царственном Священстве» Женевы власть государственная подчиняется власти церковной, как царь Саул – Самуилу священнику.34
Все христианство для Кальвина – только украшение Ветхого Завета, Закона, в отвлеченном умозрении, как бы драгоценный камень на рукояти меча, а в жизненном действии – голое лезвие меча – Ветхий Завет.