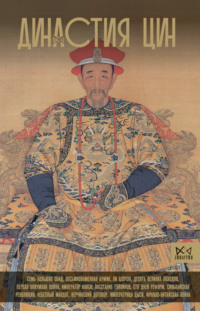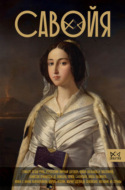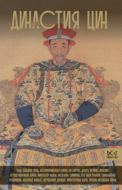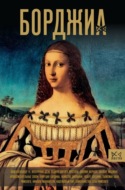Kitobni o'qish: «Династия Цин. Закат Китайской империи», sahifa 2
Глава 2. Хан Нурхаци, возродитель чжурчжэньского государства Цзинь
«Айсингьоро» можно перевести с маньчжурского как «золотой род». Точнее «айсинь» – это «золото», а «Гьоро» – имя родового объединения. Легендарный Букури Йоншун, согласно преданию, был рожден вследствие непорочного зачатия. Три небесные девы – Энгулэнь, Чжэнгулэнь и Фэкулэнь – имели привычку купаться в чистых водах озера Булхури, расположенного в потухшем кратере на горе Букури, которую китайцы называют Чанбайшань («Вечно белая гора»), а корейцы – Пэктусан («Белоголовая гора») и почитают ее в качестве символа нации, поскольку именно здесь корейская нация и зародилась. А в Северной Корее гора Пэктусан служит также символом революции и государства, поскольку здесь находилась тайная база коммунистических партизан, которыми командовал основатель Корейской Народной Демократической Республики Ким Ир Сен, который и после смерти остался формальным руководителем государства.
Итак, богини в очередной раз явились к озеру, но вернуться обратно в небесные чертоги было суждено лишь двоим. Горный дух, пролетавший вдоль берега в образе сороки, бросил красный плод в платье младшей из дев Фэкулэнь, которая съела его и тут же почувствовала себя беременной, отчего не смогла воспарить на небо и осталась жить на горе, где родила чудесного мальчика, лицо которого сияло небесной красотой. Как только мальчик родился, то сразу же заговорил. Мать назвала его Букури Йоншун и дала родовое имя Айсинь Гьоро. Когда сын вырос, то узнал от матери о своем предназначении – Небо породило его для того, чтобы он усмирил мятущееся царство и правил им. Усадив сына в челнок, который должен был донести его до того царства, мать вернулась на Небо… Достигнув нужного места, находившегося на восточной стороне горы Букури, Йоншун примирил три враждовавших знатных рода, которые признали его своим повелителем. Свою страну Йоншун назвал Маньчжу… Сколько-то времени потомки Йоншуна спокойно правили своим владением, но один из них, будучи несправедливым, восстановил подданных против себя, за что был истреблен вместе со всем родом, и только один мальчик сумел спастись, убежав в степь… Один из потомков беглеца осел в древнем городе Хэту-ала24, вдали от горы Букури, и стал править там…
Почти у каждого знатного рода есть чудесная история происхождения, обосновывающая его право на управление другими людьми. Но принято считать, что в ныне существующем виде легенда о происхождении рода Айсингьоро появилась при императоре Хунтайцзи. Прежде она была поскромнее и не имела отношения к священной горе Букури, но Хунтайцзи отредактировал ее по аналогии с мифом о Тонмёне, основателе древнего государства Пуё, существовавшего на территории современной Маньчжурии со II века до н. э. по конец V века.
«В древние времена на севере было государство Гаоцзюйли, – говорится в одной из китайских хроник. – Однажды ван25 того государства заметил, что его служанка-рабыня беременна, и хотел убить ее, но она рассказала, что забеременела чудесным образом, от того, что в ее чрево вошло облако, размером с куриное яйцо. Когда служанка родила сына, ван бросил его к свиньям, но те не причинили новорожденному ребенку зла, а, напротив, обогревали своим дыханием. То же самое произошло, когда младенца бросили в конюшню – там его согревали своим дыханием лошади и потому он не погиб. Испугавшись того, что чудесный ребенок может быть сыном Неба, ван решил больше не пытаться причинять ему зло, разрешил матери вскормить его и назвал именем Тонмён, а [впоследствии] приказал ему пасти коней. Тонмён стал весьма искусным стрелком из лука, отчего ван испугался, что он может убить его и захватить его владения. Тонмён бежал [от вана] на юг, к реке Шияньшуй, выстрелил из лука в воду, и тогда приплыли рыбы и черепахи, которые составили мост для перехода на другой берег. Как только Тонмён перешел на другой берег, рыбы с черепахами уплыли и потому преследовавшие Тонмёна войска не смогли перейти через реку. Тонмён основал столицу и стал ваном страны Пуё».
Но, так или иначе, предки наших героев переселились в Маньчжурию из области, прилегавшей к горе Букури-Чанбайшань, откуда их вытеснили корейцы. После разгрома государства Цзинь чжурчжэньские племена долгое время были раздробленными – каждое племя жило само по себе и враждовало с соседними. Предпосылки для объединения назрели давно, можно сказать, что они имелись изначально, ведь вместе, сообща, выживать гораздо легче, чем порознь, да и память о былом величии цзиньской эпохи побуждала к тому же. Но одних предпосылок мало, нужна еще и сильная личность, способная собрать все племена под свою руку. Кочевниками управлять сложно, гораздо сложнее, чем оседлым населением, которое крепко привязано к своим домам и наделам и относительно легко контролируется. Кочевники же сегодня здесь, а завтра там. Если правитель не нравится, то можно откочевать от него подальше и жить свободно. «Свободен только тот, кого ничто не удерживает», – говорили древние мудрецы, и эти слова можно отнести к кочевникам.
Но тот, кому удалось повести кочевые племена за собой, становится обладателем мобильного и отважного войска. Землепашец – не воин, а каждый кочевник – воин и скотовод «в одном флаконе». Кочевники встают в строй по первому зову, они привыкли обращаться с оружием с детства и закалены суровой кочевой жизнью… Короче говоря, для того, кто сумел объединить кочевые племена в крупный союз, открывается прямая дорога к завоеваниям по примеру Чингисхана, Тимура или основателя династии Сельджукидов Тогрул-бека.
Изначально Нурхаци или Нурхачи, основатель династии Цин, был минским вассалом. Надо понимать, что вассалитет по отношению к императорам Поднебесной был разным по сути. Он мог быть истинным вассалитетом, когда вассал регулярно выплачивал императору дань и по его зову выступал со своим войском, но мог быть и сугубо номинальным, когда от вассала не требовалось ничего, кроме признания Сына Неба26 своим отцом-покровителем. А иногда случалось и так, что в роли вассала выступал какой-нибудь воинственный сосед, которому платил дань «за спокойствие» сам император. Но ради сохранения императором лица получатель дани в официальных документах именовался сыном императора, а дань представлялась в качестве императорских даров верному слуге.
Чжурчжэньские племена обитали к северо-востоку от Великой Китайской стены, от Японского моря на западе до монгольских степей в предгорьях Большого Хингана27 на востоке, а на севере чжурчжэньские земли ограничивались рекой Амур. В минскую эпоху китайцы делили чжурчжэней на три группы – дикие чжурчжэни, чжурчжэни Хайси, проживавшие вдоль реки Сунгари28, которая тогда носила такое название, и чжурчжэни Цзяньчжоу, обитавшие вдоль реки Муданьцзян29 и в предгорьях горы Чанбайшань30. Что же касается диких чжурчжэней, то они жили к северо-западу от предгорий Хингана, в долинах рек Уссури и Амур, а также на морском побережье. Из названия ясно, что дикие чжурчжэни жили охотой и рыболовством. Восточная часть чжурчжэней Хайси уже перешла к оседлому образу жизни, а западная продолжала заниматься скотоводством. Цзяньчжоуские чжурчжэни занимались и сельским хозяйством, и охотой, и рыболовством, а также собирали женьшень и речной жемчуг. Короче говоря, чжурчжэньские племена были разными, «от пестроты в глазах рябит», как сказали бы в старину. Это к тому, что их объединение представляло весьма непростую задачу.
Минская империя, следуя древнему принципу ослаблять одних варваров31 руками других, использовала чжурчжэней для ослабления монголов, а монголов, соответственно – для ослабления чжурчжэней. Сталкивая «варваров» лбами, китайцы не забывали о торговых выгодах. Расклад был таким: от чжурчжэней китайцы получали коней, в небольших количествах – верблюдов, меха и шкуры, женьшень, речной жемчуг, мед и воск. Некоторые чжурчжэньские роды занимались выплавкой серебра и меди, и эти «валютные» металлы тоже пользовались спросом у китайцев. Взамен чжурчжэни получали от китайцев рис, который не рос в их землях, свиней, соль, ткани, железные изделия… Основная торговля шла через Цзяньчжоу, что способствовало развитию этой области и укрепляло авторитет ее правителей.
В XVI веке в цзяньчжоуские чжурчжэни объединились в племенную конфедерацию. В 1575 году, после казни китайцами вождя по имени Ван Гао, часто вторгавшегося в пределы империи, между предводителями племен разгорелась ожесточенная борьба за власть, главными участниками которой были сын Ван Гао Атай, вождь племени Суксуху по имени Никан Вайлан32 и Гиочанга, предводитель так называемых Шести бэйлэ (владетелей) из рода Гьоро. Ставка Гиочанги находилась в упомянутом выше городе Хэту-ала. Борьба затянулась надолго, как можно предположить – не без участия китайцев, которые в отношениях с чжурчжэнями и прочими «северными варварами» руководствовались правилом «не дать сильному возвыситься и не позволить слабому упасть».
Гиочанга и его сын Такши, которые были вассалами Ван Гао и теперь находились в подчиненном положении по отношению к его сыну Атаю, заключили тайный союз с ляодунским33 наместником Ли Чэнляном, тем самым, который казнил Ван Гао. Они рассчитывали получить поддержку в обмен на обещанную верность и в 1582 году, когда Атай совершил набег на минские пограничье, выступили против него в рядах императорского войска, которым командовал Ли Чэнлян. Также к Ли присоединился Никан Вайлан и, по некоторым сведениям, он был вдохновителем этого карательного похода и обещал Ли содействие для легкой победы над Атаем. Ли Чэнлян был опытным и решительным военачальником, но походы на чужую, большей частью враждебную, территорию – предприятие опасное, и здесь нужно действовать наверняка, иначе вместо вразумления непокорных может выйти позор для вразумляющих.
Крепость Гурэ, в которой укрылся Атай, была из числа тех труднодоступных горных крепостей, которые принято называть «орлиными гнездами». Кроме того, защитники крепости сражались отважно и стойко, припасов у них было вдоволь, и время играло на их стороне. Раздосадованный Ли Чэнлян, войско которого таяло день ото дня, обратил свой гнев против Никана Вайлана и потребовал от него склонить защитников крепости к сдаче. В противном случае Ли пригрозил выдать Никана Атаю в качестве «примирительного дара» и, поверьте, что эта угроза была не пустой – если не удалось вразумить врага, то нужно хотя бы заключить с ним мир, иначе поход, в котором погибло много воинов, будет выглядеть совершенно напрасным. А голова одного чжурчжэньского вождя – вполне годная плата за мир с другим чжурчжэньским вождем… Секрет могущества китайцев заключается в том, что они могут отступить, если обстоятельства складываются неблагоприятным образом, но никогда не отказываются от своих намерений и ничего не забывают.
Никану удалось уговорить защитников крепости сдаться. Они убили своего вождя и открыли ворота перед Ли Чэнляном, но предательство не принесло им счастья – гнев Ли был настолько велик, что он приказал истребить всех сдавшихся до единого. Желая выслужиться перед императорским наместником и доказать ему свою безграничную преданность, а заодно и избавиться от конкурентов в борьбе за власть, Никан Вайлан очернил перед Ли Чэнляном Гиочангу и Такши, а тот поверил и приказал своим солдатам убить обоих. Есть предположение, что Никан мог использовать факт родства с мятежником – Атай был женат на внучке Гиочанги, – и представить дело так, будто Гиочанга с сыном присоединились к Ли Чэнляну не с намерением оказать поддержку, а лишь для того, чтобы попытаться спасти свою родственницу.
Предводителем Шести бэйлэ стал двадцатитрехлетний Нурхаци, сын Такши, которого Ли Чэнлян взял под свое покровительство… На первый взгляд, поступок Ли выглядит странно, если не сказать – глупо. Не проще ли и спокойнее было бы после убийства Гиочанга и Такши заодно избавиться и от Нурхаци?
Нет, не проще. Во-первых, высокое происхождение имело большое значение: будучи сыном своего отца и внуком своего деда, Нурхаци имел законное право главенства над Шестью бэйлэ. Если попробовать поставить над ними другого правителя, то неизвестно как оно обернется – станут ли бэйлэ подчиняться ему или выступят против? Во-вторых, Ли Чэнляну был нужен «противовес», уравновешивающий Никана Вайлана, ставшего фактическим главой цзяньчжоуских чжурчжэней. В-третьих, сам Ли Чэнлян никакой вины перед Нурхаци за собой не чувствовал, поскольку действовал в рамках своих полномочий и по справедливости – на основании доказательств вины убитых, которые представил Никан Вайлан. Да и вообще «весовые категории» императорского наместника и одного из многих чжурчжэньских правителей были несравнимы, к тому же покровительство Ли защищало Нурхаци от происков других правителей, в том числе и от Никана Вайлана (впрочем, дальнейшее развитие событий показало, что это Никану следует бояться Нурхаци). Поэтому Ли официально подтвердил право Нурхаци на наследование отцовских владений и присвоил ему статус (титул) младшего вождя цзяньчжоуских чжурчжэней.
К слову будь сказано, в юности, еще при жизни отца и деда, Нурхаци жил в качестве заложника (обычная практика) в доме Ли Чэнляна, где выучил китайский язык и перенял китайские традиции, а знание языка и традиций в глазах китайцев превращало варвара в достойного образованного человека. Покровительство Ли Чэнляна имело для Нурхаци очень важное значение, поскольку Ли пользовался расположением тринадцатого минского императора Ваньли, правившего с 1572 по 1620 год (выйдя в отставку, Ли переехал в Пекин, где получил от императора высокий почетный титул тайфу, «великого наставника двора»).
Ах, если бы только Ли Чэнлян мог знать, какого дракона он пригрел! Но до поры до времени Нурхаци умело скрывал свои амбиции. Он не только учил язык и перенимал традиции, но и присматривался к состоянию дел в империи, благо ему не раз приходилось ездить с посольством в Пекин – то для доставки собранной дани, то по другим делам. Поняв, что империя Мин похожа на бумажного тигра, который с виду грозен, но силой не обладает, Нурхаци начал действовать – стал потихоньку, не привлекая особого внимания, собирать под свою руку чжурчжэньские племена. Эта задача облегчалась тем, что в качестве доверенного лица минского правительства Нурхаци контролировал часть пограничных областей, так что его деятельность по расширению собственного влияния выглядела как старания по поддержанию порядка.
Нурхаци не упускал случая для того, чтобы продемонстрировать Пекину свою лояльность, например – предложил военную помощь во время японского вторжения на Корейский полуостров 1592 года. В 1595 году Нурхаци был удостоен высокого военного титула лун ху цзян-цзюнь («полководец дракон-тигр»), обычно даваемого военным губернаторам34 имперских окраин. Надо сказать, что императорские правительства всегда были щедры на титулы и звания, ведь они льстили самолюбию облагодетельствованных, но при этом ничего не стоили, ну разве что приходилось тратиться на пожалование парадного халата и знаков отличия, вроде меча в украшенных драгоценными камнями ножнах. Правда к титулу, полученному Нурхаци, прилагалось годовое жалованье в восемьсот лян серебра. Минское правительство рассчитывало, что пожалованный титул упрочит лояльность Нурхаци, но добилось обратного эффекта – у соплеменников авторитет бэйлэ, заслуги которого удостоились императорского внимания, резко возрос, и наш герой не преминул этим воспользоваться – теперь племена охотнее присоединялись к нему.
О характере Нурхаци можно судить хотя бы по истории с Никаном Вайланом, наказания или выдачи которого Нурхаци потребовал вскоре после гибели отца и деда. Ли Чэнлян отказался удовлетворить это требование и дал Нурхаци понять, что если он будет упорствовать, то императорское правительство (то есть – наместник Ли) назначит Вайлана ваном всех чжурчжэньских племен. Другой бы на месте Нурхаци в подобной ситуации отказался бы от мысли об отмщении, но в 1584 году Нурхаци с отрядом из тринадцати воинов напал на крепость Турун, в которой находилась ставка Никана Вайлана, отчего того называли «турунским князем». Обстоятельства сложились так, что Турун пал, а Никану пришлось спасаться бегством… Разумеется, воинов у Нурхаци было гораздо больше тринадцати, иначе бы он со своим отрядом навсегда бы остался под стенами Туруна, но самолюбию великих правителей льстят истории о том, со сколь малого они начинали свой путь к вершинам власти.
В конечном итоге Никан Вайлан был вынужден искать защиты от Нурхаци у Ли Чэнляна. К тому времени, а это был 1587 год, соотношение сил изменилось кардинальным образом: Нурхаци достиг большого влияния, а сам Никан утратил былое могущество, и Ли Чэнляну не хотелось из-за него осложнять отношения с Нурхаци. В то же время выдавать Никана наместнику тоже не хотелось, поскольку это выглядело бы унизительно – вассал-варвар не мог требовать чего-нибудь у императорского наместника. Но был найден выход, позволивший Ли Чэнляну сохранить лицо, а Нурхаци – удовлетворить жажду мести. С согласия наместника, Нурхаци прислал к Никану двух доверенных воинов, которые его казнили.
Могло ли все обернуться иначе? Конечно же могло, ведь Ли Чэнлян вполне мог бы сохранить жизнь Никану Вайлану, следуя правилу «не дать сильному возвыситься и не позволить слабому упасть». Но Нурхаци не только проявил настойчивость, но и выбрал благоприятный момент, когда Ли не мог ему отказать. Настойчивость, трезвый расчет и умение дожидаться благоприятного момента были главными качествами Нурхаци как правителя.
Пожалуй, нет необходимости перечислять даты и события, поскольку этот перечень только утомит читателей и тут же будет забыт за ненадобностью. Проще будет сказать, что к 1589 году Нурхаци объединил под своей властью все племена цзяньчжоуских чжурчжэней. Настал черед соседних областей. Наибольшую сложность представляло завоевание области Хайси, которая принадлежала Хулуньской племенной конфедерации чжурчжэней, получившей свое название от озера Хулунь35, которое питают монгольские реки Керулен и Орхон. Эта конфедерация была могущественной, многочисленной и богатой, поскольку здесь процветали земледелие и торговля, но имелся у нее один большой изъян – постоянные распри между племенными вождями, которые искусно «подогревались» китайцами. Собственно, все чжурчжэньские вожди постоянно грызлись между собой, поэтому умные люди охотно шли за Нурхаци, понимая, что спасение от бесконечных войн между племенами можно обрести только в единстве. Самому Нурхаци эта разобщенность была на руку – образно говоря, он откусывал от маньтоу36 кусочек за кусочком, не боясь подавиться.
Суметь подчинить людей – это полдела, нужно еще и суметь удержать их в подчинении. Как говорил император Хунъу: «Подчиняют силой, а удерживают справедливостью». Но одной лишь справедливости мало: люди тянутся к тому, кто заботится о них. Бедняки, которые из-за нехватки средств, не могли вступить в брак, получали от Нурхаци помощь, которая решала эту проблему, причем помощь оказывалась безвозмездно, а не в виде ссуды. Племенам, которые приходилось покорять силой, Нурхаци предоставлял одинаковые со всеми права и ни в чем не ущемлял их – что было, то прошло, а теперь мы живем вместе. Такое поведение разительно отличалось от традиционного обычая обращать побежденных в рабов. Другим важным новшеством стала проведенная в начале XVII века реорганизация армии. Изначально тактической единицей чжурчжэней было ниру из десяти человек, создаваемое на время охоты или войны. Глава ниру, называвшийся «ниру эчжэнь», наделялся временными полномочиями, которые прекращались после распада завершения необходимости в ниру. Все ниру подчинялись старейшинам своих племен, которые решали, кому и в каком объеме следует оказывать помощь во время войны.
Нурхаци довел численность ниру до трехсот человек, сделал его постоянно действующим институтом, а ниру эчжэней превратил в должностных лиц, которые подчинялись не своим племенным вождям, а своим начальникам. Собственно, то была реорганизация не только армии, но и всего маньчжурского общества. Ниру эчжэни стали кем-то вроде китайских военных губернаторов – они следили за порядком на местах и в мирное, и в военное время, предоставляли правителю нужное количество воинов, организовывали сбор налогов и проведение общественных работ и т. д. Разумеется, ниру эчжэнями становились представители местной знати, но полномочиями их наделял Нурхаци, который в любой момент мог эти полномочия отобрать. Так сборище племен превратилось в регулярную армию, а заодно структурировалось маньчжурское общество. Нурхаци мог радоваться тому, что ему больше не придется зависеть от настроений племенных вождей, поскольку теперь они официально состояли у него на службе. С племенными вождями, к слову будь сказано, Нурхаци умел выстраивать отношения – щедро одаривал тех, кто вставал на его сторону, оказывал им уважение, заключал брачные союзы с особо нужными (жен у него было семнадцать, сыновей – шестнадцать, а дочерей – восемь).
Система постоянных ниру была введена в 1601 году, а шестью годами позже ниру были объединены в первые четыре полка, называвшихся «знаменами» (гуса). Если говорить точнее, то пять ниру объединялись в чжалань, а пять чжалань составляли знамя. Одно из «знамен», желтое, возглавил сам Нурхаци, а во главе других встали его ближайшие родственники, так Нурхаци сделал командование войском привилегией рода Айсингьоро. К 1615 году число знамен-гуса возросло до восьми, причем четыре первых, «истинных» «знамени», называемых по-маньчжурски «гулу гуса», а по-китайски – «чжэнци», стояли в иерархии выше других четырех, имевших на знамени кайму и называвшихся «кубухэ гуса» или «сянци». Разделение «знамен» по цветам было взято из традиционной системы, согласно которой ниру получали цветное знамя, соответствовавшее их месту в боевом порядке – заднее, центральное, подразделение имело желтое знамя, левое боковое – красное, правое боковое – белое, а оба передних боковых – синее. Каймы на знаменах потребовались для того, чтобы можно было ограничиться четырьмя цветами без ввода дополнительных, которые нарушили бы сложившуюся систему. Желтым знаменем с каймой тоже командовал Нурхаци.
Если ниру были кровнородственными объединениями, то чжалани и знамена-гуса не были связаны между собой родственными отношениями, что являлось дополнительной гарантией их лояльности.
Нурхаци придавал большое значение развитию национального самосознания. Мы – чжурчжэни! В 1599 году он приказал создать маньчжурскую письменность на основе монгольского вертикального письма. Прежде чжурчжэням приходилось писать на монгольском языке, который знали далеко не все, да и как-то несообразно пользоваться чужим языком для письма. Внедрение национальной письменности способствовало повышению уровня грамотности чжурчжэньского общества, правда, о том, чтобы каждый умел читать и писать, в те времена не могло быть и речи. Надо сказать, что в отношениях с другими нациями Нурхаци следовал требованиям текущего момента, иначе говоря, поступал так, как ему было выгодно поступать сейчас. Когда требовалось привлечь на свою сторону правителей восточномонгольских племен, он говорил: «Корейцы и китайцы имеют разные языки, но одеваются одинаково и ведут схожий образ жизни; точно так же у чжурчжэней и монголов – языки разные, а одежда и образ жизни – одинаковые». Когда же появилась возможность заменить союз установлением сюзеренитета, Нурхаци сказал: «Вы, монголы, разводите скот, едите мясо и носите шкуры, а мой народ возделывает поля и питается зерном; мы двое – не одна страна, и языки у нас разные».
Думал ли Нурхаци в середине своего пути о завоевании Китая? Точно сказать нельзя, поскольку ни он сам, ни его приближенные не вели дневников и не писали мемуаров. Возможно, первоначальной целью этого великого человека было создание сильного чжурчжэньского государства по образцу Цзинь, но обстоятельства сами столкнули его с империей Мин, которая с большой тревогой наблюдала за происходящим на северо-восточной границе. Когда-то и Чингисхан начинал с малого, а чем все закончилось? Правлением монгольской династии Юань!
Рост влияния должен был отражаться в титулах. В 1589 году Нурхаци принял титул вана, а в 1596 году провозгласил себя ваном Цзяньчжоу, то есть из «князя» превратился в правителя государства. Союзники-монголы в 1606 году преподнесли Нурхаци титул кундулэн-хана, что было нарушением установившегося правила, согласно которому ханом мог быть только потомок Чингисхана по мужской линии. Нурхаци на такие условности внимания не обращал – подобно Чингисхану, он перекраивал мир по собственным лекалам. В 1616 году Нурхаци провозгласил себя великим ханом основанного им чжурчжэньского государства, которое теперь называлось на маньчжурский лад Айсин Гурунь – Золотым государством37. Столицей государства стал город Синцзин. Девизом правления Нурхаци избрал Тяньмин – «Небесный мандат», то есть, по сути, провозгласил себя Сыном Неба, равным минским императорам. Точнее даже не равным, а получившим отнятый у династии Мин Мандат. Это уже было прямым и откровенным вызовом, а объявлением войны стал манифест под названием «Семь больших обид», изданный в мае 1618 года.
Обиды были собраны, что называется, «в кучу», начиная с безосновательного убийства китайцами деда и отца Нурхаци и заканчивая поддержкой, оказанной империей Мин племени ехэ. Нурхаци нелегко далось покорение этого самого могущественного племени Хулуньской конфедерации. На момент издания манифестаа ехэ еще продолжали сопротивляться (но осенью 1619 года сдались).
Вскоре после издания манифеста двадцатитысячная восьмизнаменная армия под командованием Нурхаци вторглась в Ляодун, где захватила и разрушила три крепости и пять городов, население которых, общей численностью в полмиллиона человек, было уведено в Айсин Гурунь. В войне с империей Мин, которая, несмотря ни на что, оставалась сильным противником, полководческий талант Нурхаци проявился во всей красе – быстроту маневра он сочетал с точным выбором места для нанесения сокрушительных ударов и потому с пятьюдесятью тысячами воинов мог разгромить двухсоттысячную минскую армию, как это произошло в 1619 году, вскоре после маньчжурского нападения на Ляодун. Готовя ответный карательный поход, минские стратеги решили наступать на маньчжурскую столицу четырьмя корпусами, чтобы, образно говоря, «взять город в клещи». Нурхаци по очереди разгромил три корпуса, а четвертый успел отступить и тем спасся.
«Стратегия ведения войны такова, – писал великий полководец древности Сунь-цзы38, – если у тебя в десять раз больше сил, чем у противника, то окружи его. Если в пять раз больше, то атакуй его. Если в два раза больше, то раздели свои силы. Если силы равны, можно сразиться с противником, а если у тебя меньше сил, то перехитри его».
Покончив с основным блюдом, Нурхаци принялся за десерт – разгромил корейское войско, торопившееся на помощь китайцам. Идейное значение этих побед было выше военно-политического – если «ничтожному варвару» постоянно сопутствует удача, значит, Небо и впрямь вручило ему свой Мандат. Двумя годами позже Нурхаци в очередной раз продемонстрировал свои возможности, захватив Ляодун целиком. Так маньчжурское государство начало прирастать китайскими землями… На этот раз Нурхаци не стал угонять китайское население в Маньчжурию, а напротив, перенес свою столицу в самый крупный город Ляодуна Шэньян, который был переименован маньчжурами в Мукден. В 1625 году здесь началось строительство дворцового комплекса, который достраивал уже сын и преемник Нурхаци Абахай, более известный под именем Хунтайцзи.
Случались, правда, и неудачи. Так, например, при завоевании области Ляоси39 в феврале 1626 года маньчжурам не удалось захватить главную местную крепостью Нинъюань (во многом благодаря тому, что у китайцев были пушки – хунъипао)40, а вдобавок Нурхаци здесь получил тяжелое ранение и был вынужден оставить командование армией. Принято считать, что это ранение, вкупе с моральной травмой от понесенной неудачи (привыкнув к победам, очень трудно смириться с поражением), стали причиной смерти Нурхаци, наступившей в сентябре 1626 года.
То ли Нурхаци недооценивал тяжесть своего состояния, то ли не мог определиться с выбором, то ли хотел, чтобы его сыновья правили коллективно, но преемника он не назначил… Когда-то преемник имелся, им был старший сын Нурхаци Цуень (Куен), родившийся в 1580 году, до начала возвышения своего отца. С семнадцати лет Цуень помогал Нурхаци подчинять чжурчжэньские племена, показав себя храбрым воином и талантливым командиром. К началу XVII века Цуень стал правой рукой отца, которого он замещал во время его походов. Разумеется, возвышение Цуеня вызывало недовольство у его родных братьев, с которыми, скажем честно, Цуень не очень-то считался, в частности – забирал себе бо́льшую часть военной добычи вместо того, чтобы делить ее поровну. Братья жаловались на Цуеня отцу, который призывал того быть справедливым, но отцовские наставления пропадали втуне. Конфликт между Цуенем и его братьями обострялся, и вроде бы Нурхаци даже начал склоняться к тому, чтобы его сыновья управляли государственными делами сообща (из этой утопической идеи не вышло бы ничего, кроме грандиозной распри, которая могла похоронить только что созданное маньчжурское государство, но даже очень умные люди могут тешить себя иллюзиями).
Согласно общепринятой версии, в 1612 году, во время очередной военной кампании, Цуень был уличен в колдовстве против своих братьев, за что Нурхаци приказал поместить его под арест. Двумя годами позже тридцатичетырехлетний Цуень скончался в заключении – то ли от естественных причин, то ли был убит по приказу отца. Посмертно Нурхаци пожаловал Цуеню высокий титул наследного принца Гуанлю41. Можно предположить, что это было сделано из соображений собственной безопасности – отец хотел задобрить дух сына, чтобы тот ему не вредил. Хунтайцзи впоследствии изменил титул покойного брата на бэйлэ Гуанлю, то есть – понизил его значение. Цуеню до этого не было никакого дела, а вот его потомкам титул предка был важен, поскольку он определял их место в иерархии дома Айсингьоро.
А теперь давайте разберемся с формальностями. Нурхаци считается основателем династии Цин, и это правильно с логической точки зрения. Но формально основанное им государство называлось Айсин Гурунь. Он принял титул великого хана и объявил себя, через избранный девиз правления, держателем Небесного мандата, но императорского титула не принимал и вошел в историю как хан Нурхаци из дома Айсингьоро.