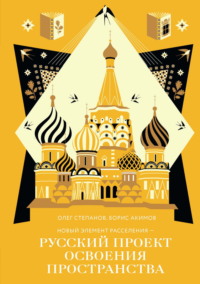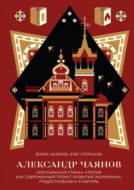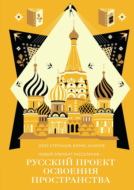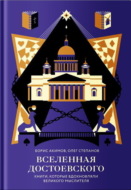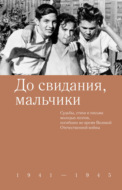Kitobni o'qish: «Новый элемент расселения – русский проект освоения пространства»

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

Серия «Русское пространство-2062»

© ООО ТД «Никея», 2025
© АНО Центр «Никея», 2025
© Акимов Б.А., Степанов О.В., 2025

Письмо 1-е Олега Степанова (автора книги) читателям
О пространстве вообще и новом элементе расселения в частности
Об органическом и механическом пространстве
В детстве лето я проводил, как и все потомственные горожане, на даче. Дачные пригороды – это фактически часть города. Как метко написала Джейн Джекобс о пригородах: «Жиденькую полупригородную кашицу, которую мы… творим, сами же обитатели этих мест очень быстро начинают презирать… Поистине огромные пространства, занимаемые ныне городскими „серыми поясами“, – это вчерашние поселения тех, кто хотел быть „ближе к природе“».
Первый раз я попал в настоящую деревню, когда меня забрали в армию. На пересылке в деревне под Тамбовом понадобились косари. На всю призывную команду москвичей нашлось два косаря – я (дед меня научил косить косой еще в детстве) и парень с Сахалина, призванный из московского вуза. Обед нам приносили в поле. Мы лежали на траве, наворачивали густые щи, и парень мне рассказывал о Сахалине. Слушал я вполуха. Тогда первый раз увидел и почувствовал свободное органичное пространство – небо, поля, деревенские дома, треск насекомых, запахи. Ощущение воли и красоты.
С тех пор, как попадаю в настоящую сельскую местность (это бывает теперь часто), не оставляет ощущение органичности пространства, но не природного, а как раз пространства, которое создавал человек – с селами, полями, пастбищами – все это вместе с природой органично образует единый ландшафт. Даже звуки и запахи вписаны в этот ландшафт. Конечно, полной противоположностью этому является то городское и пригородное пространство, которое творим мы, люди, последние сто лет (по нарастающей начиная со времени победного шествия промышленной революции).
«Правильные» архитекторы и урбанисты возразят мне, что в XIX веке возник «промышленный» город (многажды критикуемый его современниками) – он был ужасен своей экологией и трущобами, а сейчас, в XXI веке, мы устремлены к постиндустриальному «светлому» и прекрасному городу-сервису. И что нельзя все валить в одну кучу. Но мне, честно говоря, что новые кварталы Барселоны, что американские субурбии, что многоуровневые магистрали Гонконга, что московская Рублевка, что Бутово (а уж про новостройки в полях просто умолчим) – кажутся равно ужасными, только лишь в разной степени. И в чем этот ужас и некрасота? В том, что современное урбанизированное пространство (включая коттеджные поселки, СНТ и деревни, заселенные дачниками) – не представляет собой организм. Эти пространства представляют собой исполнение наших «хотелок». Изначально пространство нам представляется либо пустым и не имеющим свойств. Либо мы считаем, что имеем право из него все выкинуть, а свойства «сравнять бульдозером» и наполнить его всем, о чем мечтаем в рамках бюджета.
Можно себе представить предельно «хороший» случай – как строится коттеджный поселок для богатых людей (готовые дома или участки с подрядом ⁄ без подряда – неважно). В любом случае строительная площадка обносится забором, туда загоняется бульдозер, деревья вырубаются, овраги засыпаются, неровности ровняются, река/озеро «прихватизируются» (не мытьем, так катаньем), а дальше осуществляются бредовые представления девелопера о мечтах будущих покупателей или сразу – заветные мечты покупателей. Это могут быть псевдоклассические «дворцы», могут быть викторианские домищи или циклопические терема из цилиндрованого бревна «а-ля рюс», может быть что-то посовременнее – минималистичное и стеклянное. Вокруг будут насыпаны альпийские горки, пущены искусственные ручейки, посажены акклиматизированные деревья с разных континентов. И все это (непонятно почему) будет названо как-нибудь типа «luxury village», или «альпийская Швейцария», или «русская сказка».
Богатый квартал в городе, участок в СНТ, обнесенный забором из профнастила, дом, обитый сайдингом, богатое и бедное – абсолютно все возникает из «я хочу», «мне надо», «бюджет позволяет вот это». Так мыслим все мы – и те, кто «со вкусом», и те, у кого со вкусом проблемы. Но так не может вырасти ничто органичное. Конечно, мы потеряли то ощущение пространства, которое было у наших предков до победы промышленной революции, а вернее – до Нового времени. Еще у Аристотеля пространство состояло из «мест», имеющих определенные свойства, а каждая вещь стремилась занять свое «место» в пространстве, тогда вещь становится красива, а между вещами возникает гармония, а значит красота. Уничтожая свойства пространства, мы получаем мертвую среду, которая не может быть красива и органична. Это фундаментальная проблема.
Талантливые архитекторы XX и XXI веков чувствовали эту проблему, писали о ней и пытались ее решить. Хотя на практике никому это не удалось, но это не значит, что теория градостроения должна, как сейчас, замкнуться на примитивных задачах создания «комфортной городской среды». Главный идеолог японских метабол истов Киёнори Кикутакэ писал: «Японцы привыкли к неразрывности традиции, одной из основ устойчивости нашей цивилизации. Поэтому и концепция метаболистической архитектуры восходит к истокам японской строительной традиции, предлагая алгоритм ее изменения… Для Японии это был вопрос будущего нашей цивилизации. Поэтому необходимо было учитывать, будет ли нужна Японии наша концепция. При этом мы верили, что такой подход к архитектуре и вообще к построению нового мирного общества будет полезен для развития и других стран… Вообще, в Японии всегда уделялось особое внимание законам эволюции животного и растительного мира. Поэтому природные закономерности стали одной из основ архитектурного метаболизма. Возможно, по похожим биологическим законам должна развиваться и архитектура. Современные технологии позволяют реализовывать самые смелые проекты, поэтому есть надежда, что опыт метабол истов найдет свое применение и в XXI веке».
Посмотрите, какой у Киёнори Кикутакэ «замах» – на развитие цивилизации на основе японских традиций, на создание человеческих поселений по биологическим законам! Биологическим, а не механистическим! Примерно в это же время великий греческий архитектор Константинос Доксиадис создавал теорию расселения – «экистику». Его «Ойкуменополис» – это не город, это органичное расселение сообществ людей по земле. Смертельный приговор городу и современной системе расселения выносит Рем Колхас: «Город-дженерик знаменует собой окончательную смерть планирования. Почему? Не потому что его никто не планирует. На самом деле огромные дополняющие друг друга вселенные бюрократов и девелоперов вливают в его планирование невообразимые потоки энергии и денег: за эти деньги можно было бы все пустыри города-дженерика удобрить бриллиантами, а все топи замостить кирпичом… Однако наиболее тревожное и одновременно восхитительное открытие состоит в том, что планирование ровным счетом ничего не меняет… Поверхность города взрывается… экономика коллапсирует».
Прекрасная иллюстрация цитаты Колхаса – современная Москва, да и любой мегаполис мира, особенно в любимом теперь нами Китае. Несмотря на дорогостоящую косметику урбанистов, называемую «созданием комфортной городской среды»; несмотря на бесконечный спор градостроителей: какой документ является правильным документом планирования – генплан или мастерплан; несмотря на десятки миллиардов, вкладываемые в планирование и обустройство, – мы видим абсолютно неструктурированную, не подчиненную законам соразмерности, красоты и органичности застройку сельской местности высотными человейниками разной степени фантастического, невиданного в истории человечества уродства, превращающими населяемые нами территории земли в «мусорное пространство» (термин Р. Колхаса).
Мы расширяемся
Со школьных лет меня удивляли и завораживали люди, которые осваивали «пустое» пространство. Почему «пустое» в кавычках? Понятно, что пространство никогда пустым не бывает. Оно точно наполнено ландшафтом, растениями, животными, чаще всего там живут люди, освоившие это пространство раньше, живущие своей культурой, возможно ранее неизвестные тем, кто осваивает позже.
Тем не менее герои моего детства и юности: Марко Поло, Христофор Колумб, Ермак Тимофеевич, Иван Ерастов, Михаил Стадухин, Давид Ливингстон, Николай Пржевальский – шли как бы в пустоту – в неизвестность, в неустроенность. Что их заставляло идти? Чаще всего поверхностные ответы сводятся к деньгам, богатству, поручениям правительств. Однако если подробнее ознакомиться с их записями, свидетельствами современников об их жизни, то становится очевидно, что ни пушнина, ни специи, ни поручения генштаба не могут заставить людей годами и десятилетиями пребывать в «пустоте», жить среди «чужого», подвергать жизнь стопроцентному риску. Только полноценная позитивная жизнь может увлекать в освоении новых пространств. Русские казаки оставляли за собой не пустыню, а хозяйствующие поселения, они распространяли «русскую» жизнь (быт, культуру) на новые пространства. И несмотря на то, что летописи повествуют в основном о сражениях и дани, но уже через десятилетие-другое мы видим хозяйство и освоенное пространство, а не поля сражений и трупы. Думаю, что первопроходцы жили и хозяйствовали не меньше, чем воевали. Иначе мирная жизнь не проявилась бы так скоро.
Каменные и ледяные пустыни Тибета описаны Пржевальским и нанесены на карты, собраны коллекции – сотни видов растений, около тысячи животных, пройдены 12 тысяч километров – все это за три года первой экспедиции вчетвером свершили два офицера и два казака. Всего Николай Михайлович совершил четыре невероятных экспедиции, годами не появляясь «на людях». За какую плату это можно сделать? За плату – невозможно! В своих сочинениях Пржевальский пишет, что его тяготит жизнь в городах, да и вообще в освоенных пространствах, он хорошо себя чувствовал, только когда осваивал неизведанное пространство.
В целом Русское государство и русская культура вплоть до первой половины XX века осваивали пространство начиная с Дикого поля на юге и далее через Урал и Сибирь на Дальний Восток, на Север вплоть до островов Северного Ледовитого океана. Приведу несколько удивительных для меня фактов. В XVI и XVII веках при движении Московского царства на юг и на восток было основано, построено по плану и заселено 350 новых городов! В 1926 году Георгий Ушаков основал на безлюдном, покрытом льдами острове Врангеля в Северном Ледовитом океане советское поселение, которое просуществовало до 90-х годов XX века, одно время на острове было целых три оленеводческих поселка! До 50-х годов XX века на острове Новая Земля в Северном Ледовитом океане было 12 поселков поморов и ненцев!
Посмотрите на карту – это ледяные пространства, зачем там жить на постоянной основе? Или, казалось бы, зачем неплотно населенному государству, а вернее людям, образующим это государство, расползаться с риском для жизни на новые территории, когда и на старых жили не тесно?
Я не вижу простых ответов. А непростой ответ будет дан в этой книге.
Мы сжимаемся
В конце XX века появилась новая тенденция: люди начали покидать освоенные предками пространства и концентрироваться в мегаполисах, которые разрослись и превратились в десятки тысяч квадратных километров урбанизированных перенаселенных территорий. Что с нами случилось? Есть простой ответ: люди стремятся к комфорту, к удовлетворению максимально широкого круга потребностей. Большой город, мегаполис, агломерация – это образования, основанные на потреблении и совсем ни на производстве, ни на созидании (ни в каком смысле, даже в интеллектуальном). Сейчас очевидно, что «промышленный город» умер – синие воротнички не живут в городе, а интеллектуалы в большом городе не нуждаются: удаленка, кампусы, наукограды – вот их среда обитания. Западная неолиберальная концепция города-сервиса – это логическое завершение размышлений, каков должен быть город в обществе потребления. Город-сервис – это общество тотального бюрократического контроля, где нет других смыслов, кроме удовлетворения потребностей самих жителей города (а в городах живет почти все население), ради которого жители отдали свою свободу. О таком городе пророчески писал более века назад русский мыслитель Н. Ф. Федоров: «…полиция – это как бы нервная система города. Город есть гражданско-полицейский организм, а не союз лиц, понимаемых как братья; город таков потому, что он не имеет отеческого дела… род человеческий погибнет, хотя и не от того, от чего ожидают его гибели… род человеческий погибнет, предавшись комфорту, забавам, игрушкам».
Вопреки утверждениям, что большие города производят 80 % мирового ВВП, города ничего реального не производят, кроме сферы услуг для самих себя. Большие города засасывают ресурсы как черная дыра: огромная сила гравитации городов притягивает людей и деньги. Люди работают в частных и государственных бюрократических структурах – в офисах, которые ничего не производят, но имеют исключительно административно-контролирующие функции. А деньги крутятся в бюджетных мешках и в спекулятивных финансовых институциях. Условно говоря, «нефть» добывается на Севере, а налоги и финансовые потоки стекаются в мегаполисы, банковские вклады делаются всеми гражданами страны, а навар от спекулятивных сделок оседает в больших городах. По всему миру крупные города пылесосят остальные территории и жируют, а неурбанизированное пространство находится в депрессивном состоянии. Вот так фиксируют эту ужасную картину Андре Торре и Фредерик Валле, лидеры французской школы пространственной экономики: «Современные города… занимают з % мирового пространства, потребляют 75 % его природных ресурсов, и производят 60–80 % отходов. Города по существу представляют собой скопление людей, которые не производят свои собственные средства к существованию»1.
Однако вопрос о причинах сжатия остается. Во-первых, сервисы и удовлетворение потребностей стали доступны как никогда – и за счет скорости преодоления расстояний, и за счет удаленных коммуникаций. Почему это не побуждает людей осваивать пространство?
Потому что освоение пространства – это не про удовлетворение потребностей, но про другое. Про что?
Это тоже глубокий вопрос, на который постарается ответить эта книга. Во-вторых, всегда ли в центре жизни людей стояло удовлетворение потребностей? Очевидно, что нет. Тогда люди и осваивали пространство, когда в центре жизни стояло нечто другое.
А почему и как потребности стали во главу угла? Это третий круг вопросов для нашей книги.
Русский город и окружающий мир
Пока люди не сжимали площадь расселения, но осваивали пространство – расселялись, как они это делали? Как взаимодействовали с окружающим миром? Провозвестниками Нового времени считаются европейские города. Они резко выделились из окружающего феодального средневекового пространства во всех смыслах: отгородились стенами, завели самоуправление, ремесленные цеха и ростовщиков – предтеч банковской системы. Постепенно, спустя века, в эпоху победы промышленной революции города начали агрессивное наступление на пространство – разрушен хозяйственный уклад, культура, подорваны сами основы существования неурбанизированных сельских территорий. Упомянутые выше французские экономисты Андре Торре и Фредерик Валле в монографии «Региональное развитие сельской местности» пишут: «…традиционные сельские районы, которые в большинстве своем являлись сельскохозяйственными районами, претерпели существенные изменения, особенно со второй половины XX века. В большинстве стран мира этот период был отмечен массовой миграцией десятков миллионов людей из сельскохозяйственных районов в городские районы, которая впоследствии расширилась до ранее немыслимых масштабов… Понятие самобытности сельского населения – идея, когда-то столь прочно установившаяся, что сельские районы часто называют „сельскими мирами“, – теперь все больше разрушается. Сейчас, в эпоху интернета и Google, телевидения, мобильной связи и смартфонов, информация распространяется быстро и доступна все большему числу людей. Это привело к определенной стандартизации людей – их отношения, желания и представления о реальности свидетельствуют о том, что восприятие сельского населения как отдельной социальной категории уже не является полностью обоснованным. Действительно, потребности и ожидания сельского населения все больше напоминают потребности и ожидания людей, живущих в городах»2.
Можно сказать, что урбанизация приобрела тотальный характер. Город-пылесос высасывает ресурсы (людские и природные) из «негорода» и распространяет вовне свой образ жизни, культуру, а потом урбанизирует и само пространство. Город расползается по пространству как нефтяное пятно по воде – покрывая все живое пленкой новых жилых массивов, СНТ, коттеджных поселков, складов, дорог, коммуникаций, убивая жизнь.
В сельской местности разрушены традиционные деревни: то, что сейчас там есть, скорее порождено скрещиванием «ежа с ужом» – искореженный «недогород». Надо сказать, что мы чувствуем порочность логики такого развития. В чем именно? Вот некоторые результаты урбанизации пространств. Население городов не любит трудиться, но любит потреблять – и мы уже остро чувствуем, что скоро будет некому «чинить унитаз», «строить дом», «производить машины». Город отрицает природу – и для того, чтобы быть и любоваться природой, нам нужно преодолеть уже 200–300 километров, прорваться сквозь пробки, потратить четыре-пять часов. Город превращает ресурсы в отходы и выбрасывает их за свои границы – и нам не нравится вид и запах огромных свалок. Это лишь некоторые противоречия нынешнего освоения пространства, вернее – отступления людей из пространства, опустошения пространства. И в нынешней модели развития нет решений этих проблем, кроме построения неолиберального «общества тотального контроля и регуляции», экологического шовинизма Греты Тунберг и убогих футурологических фантазий о роботах, виртуальной реальности и квартирах-капсулах в стоэтажных зданиях.
Когда мы видим явления, лежащие на поверхности, то склонны объяснять их поверхностной логикой: мир меняется так-то и так-то – эти изменения логичны и объективны. И это правда. Но следуя такой логике, мы никогда не можем предугадать, как изменится мир завтра. Часто нам перестает нравиться то, в какую сторону меняется мир, – это свидетельство кризиса, точки бифуркации, разворота, но мы все равно говорим: «Логика такая, хоть она нам и не нравится, мы ничего сделать не можем». В эти моменты мы все чаще вспоминаем утраченное прошлое. Однако говорим себе: «Нет. В прошлое вернуться нельзя». И правда – нельзя. Хотя само обращение к прошлому свидетельствует о том, что мы ищем там что-то, чего нам не хватает. Думаю, что если найти это зерно, то из него может вырасти современное новое актуальное позитивное движение. В конце концов существует представление о том, что мир развивается не по прямой, а по спирали, возвращаясь и трансформируя нечто уже бывшее, но на новом уровне и в новых условиях.
И здесь хочется вспомнить допетровский русский город. Ученые назвали его «ландшафтный живописный русский город». «Для структуры русских городов до XVIII в., как новых, построенных в XVI–XVII вв., так и старых, продолжавших жить в это время, свойственны черты, которые позволили назвать их ландшафтными городами свободной планировки. Эта система предполагает соответствие расположения строящихся зданий, их комплексов, этажности (высоты) и ориентировки по естественному ландшафту – низким и высоким местам, косогорам и оврагам, предполагает связь с естественными водоемами, выделение зданий-доминант, видимых из всех точек соответствующего района города, достаточное расстояние между зданиями и кварталами застройки, образующее „прозоры“ и противопожарные зоны и пр.
Этих особенностей в значительной степени было лишено строительство по регулярной планировке, начавшееся в России с возведением Петербурга и ставшее стереотипным в XVIII–XIX вв. Оно основывалось на других эстетических принципах и многое заимствовало из западноевропейских средневековых городов»3.
Допетровский русский город – это уникальное явление. В XVI и XVII веках было построено в Московском царстве более 300 новых городов, которые ученые называют «русскими ландшафтными живописными городами». Построено не стихийно, а по подробному плану, состоящему из четырех частей: объемно-пространственные чертежи-рисунки (пространственная модель), плоские планы (зонирование), роспись (обоснование) и смета (сейчас – укрупненный расчет). Их главное отличие от модернистского города – отсутствие кристаллической решетки кварталов, правильной структуры, наложенной на пустоту выпрямленного пустого пространства. Вся структура русского города расположена по месту, вписана в ландшафт. Русский город не довлел себе (в правильном значении слова «довлеть» – «удовлетворять»), он организовывал пространство вокруг. Русский город – это не только крепость, это – и посады, и слободы, и всякие «ухожен» (пашни, выгоны, леса, поля). Протяженность городов, указанная в документах того времени, – десятки, а площадь – сотни верст! Русский город в то время мыслился как пространственный организм, включающий большие хозяйственные и природные территории. Причем природные территории – не тронутые, с охраняемым ландшафтом (о чем свидетельствуют росписи). Русский город «прыгал», флуктуировал в естественном ландшафте, подчеркивая его доминанты-острова, имел низкую плотность застройки, обеспечивающую «прозоры» на эти ландшафтные и архитектурные доминанты. Не производилась нивелировка территории: не засыпались рвы и овраги, не сглаживались холмы и скальные выходы. Первична – объемно-пространственная система, а план – вторичен, ей подчинен. Город легко ложился на рельеф местности и плавно входил в природу за счет изогнутых улиц, неправильных форм площадей и разбросанности застройки. Доминанты: башни-крепости, храмы, колокольни – расставлялись свободно и царили над местностью.
В современном городе приходится постоянно решать проблему отсутствия органичной связанности: окраины противостоят центру, а сам город – селу и природе. А допетровский город был скорее фракталом или монадой, воспроизводившей структуру целого – всей организации территории как части единого государства. Население города включало практически все сословия, представленные в государстве: и служилых, и военных, и ремесленников, и торговцев, и казаков, и крестьян. Всем (всем!) горожанам полагались наделы вне крепости, посадов и слобод для ведения сельского хозяйства. Этим русский город был похож и на греческий полис – он был всесословный и экономически связан с заботой о земле, о непосредственно его окружающей среде. Он был самодостаточен, имел крепкие внутренние связи, поэтому не стремился подчинить и урбанизировать все вокруг. Он сам был маленькой копией государства – органично распространял все аспекты экономики и социального устройства государства на новые территории.