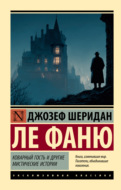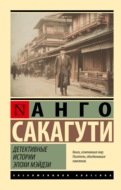Kitobni o'qish: «Скептические эссе»
Bertrand Russell
Sceptical Essays
© The Bertrand Russell Peace Foundation Ltd., 1996
© Перевод. А. Курышева, 2021
© Издание на русском языке AST Publishers, 2024
* * *
Любить и размышлять – вот подлинная жизнь духа.
Вольтер
Глава I. Введение: О ценности скептицизма
Мне хотелось бы предложить благосклонному вниманию читателя доктрину, которая, боюсь, может показаться пугающе бунтарской и парадоксальной. Звучит она так: если у вас нет веских оснований полагать, что утверждение является истинным, верить ему нежелательно. Разумеется, я должен признать, что распространение этого принципа полностью изменило бы как нашу общественную жизнь, так и нашу политическую систему; поскольку обе они в настоящее время безупречны, очевидно, что это свидетельствует не в его пользу. Я также осознаю (и это более серьезно), что оно привело бы к снижению уровня доходов ясновидящих, букмекеров, священников и всех остальных, кто зарабатывает на иррациональных надеждах людей, ничем не заслуживших блаженства ни в земной жизни, ни после нее. Несмотря на эти веские доводы, я все же считаю, что в моем парадоксе есть зерно здравого смысла, и попытаюсь объяснить, в чем оно заключается.
Прежде всего мне хотелось бы оградиться от подозрений, будто бы я занимаю какую-то крайнюю позицию. Я – британский виг и питаю истинно британскую любовь к умеренности и компромиссам. Есть одна история о Пирроне, основателе пирронизма (так раньше называли скептицизм). Он утверждал, что никто никогда не бывает осведомлен настолько, чтобы быть совершенно уверенным, будто один ход действий разумнее другого. Как-то раз в юности, совершая послеобеденный моцион, он увидел, что его учитель философии (от которого он и перенял этот принцип) завяз головою в грязи и никак не может выбраться. Понаблюдав за ним несколько времени, Пиррон пошел дальше, поскольку решил для себя, что нет достаточных оснований полагать, будто, вытащив старика, он поступит верно. Другие менее скептичные люди поспешили на помощь, а Пиррона обвинили в бессердечии. Однако учитель, верный своим принципам, похвалил его за последовательность. Должен сказать, сам я столь героического скептицизма не проповедую и с готовностью придерживаюсь привычных убеждений, продиктованных здравым смыслом – если не в теории, то хотя бы на практике. Я покорно признаю любой хорошо обоснованный научный вывод пусть не безусловно верным, но достаточно правдоподобным для того, чтобы служить основой рациональных действий. Если ученые объявляют, что в такой-то день должно произойти лунное затмение, по-моему, есть смысл выглянуть в окно и посмотреть, действительно ли это так. Пиррон рассудил бы иначе. На этом основании я считаю, что имею право назвать себя сторонником умеренной позиции.
Существуют вопросы, по которым люди, их изучившие, пришли к единому мнению; даты затмений могут послужить здесь иллюстрацией. Существуют также вопросы, по которым у экспертов согласия нет. И даже если все эксперты согласны, они вполне могут ошибаться. Двадцать лет назад позицию Эйнштейна касательно величины гравитационного отклонения света отвергли бы абсолютно все специалисты в этой сфере, однако она оказалась верной. И все же мнение экспертов, когда оно единодушно, неспециалистами должно восприниматься как более вероятное, чем противоположное мнение. Скептицизм, за который я выступаю, сводится лишь к следующему: первое – когда эксперты едины в каком-либо мнении, противоположное мнение не может считаться неоспоримым; второе – когда мнения экспертов разнятся, неспециалист не может считать неоспоримым никакое мнение; и третье – когда все они считают, что достаточных оснований для твердого ответа не существует, обычному человеку будет разумнее воздержаться от суждения.
Эти предложения могут показаться безобидными, но, будучи приняты, они произведут в человеческой жизни самую настоящую революцию.
Все мнения, за которые люди готовы убивать и преследовать, неизбежно принадлежат к одному из трех классов, порицаемых с позиции этого скептицизма. Когда у мнения есть рациональные основания, человеку достаточно изложить их и дождаться, пока они сделают свое дело. В таких случаях он не цепляется яростно за свое мнение; он придерживается его спокойно и спокойно же излагает аргументы. Горячо придерживаются лишь тех мнений, для которых не существует рационального основания; можно сказать, что горячность – это свидетельство недостатка рациональной убежденности. Подобная горячность почти всегда встречается в политике и религии. Повсюду в мире, за исключением Китая, если человеку нечего сказать на эти темы, его считают жалким существом; люди ненавидят скептиков гораздо больше, чем страстных защитников мнений, которые противоречат их собственным. Считается, что твердая позиция по таким вопросам – необходимое требование практической жизни и что, стань мы более рациональными, существовать в социуме было бы невозможно. Я убежден в обратном и постараюсь пролить свет на причины этого убеждения.
Возьмем вопрос о безработице в период, последовавший за 1920 годом. Кто-то считал, что ее вызвало пагубное влияние профсоюзов, другие обвиняли неразбериху на континенте. Третьи хотя и признавали, что эти факторы сыграли свою роль, но возлагали большую часть вины на политику Банка Англии, пытавшегося повысить стоимость фунта стерлингов. Насколько мне удалось понять, в этой третьей группе состояло большинство экспертов – и больше никто. Политиков не привлекают взгляды, о которых нельзя разглагольствовать с партийной трибуны, а простые смертные предпочитают приписывать любые несчастья вражеским козням. В результате люди спорят из-за совершенно не относящихся к делу мер, а тех немногих, кто придерживается рационального мнения, не слушают, поскольку они не тешат ничьих страстей. Чтобы переманить на свою сторону широкую публику, им пришлось бы внушить ей, будто Банк Англии – воплощение зла. Чтобы завлечь лейбористов, необходимо было бы показать, что директора Банка Англии чинят препятствия профсоюзному движению; чтобы обратить в свою веру епископа Лондонского, пришлось бы доказывать, что они «аморальны». Из этого бы логически следовало, что их позиция по вопросу обменного курса ошибочна.
Рассмотрим еще одну иллюстрацию. Есть мнение, будто социализм противоречит человеческой природе – это утверждение социалисты отвергают с тем же жаром, с каким их оппоненты на нем настаивают. Покойный доктор Риверс, кончина которого достойна бесконечного сожаления, затрагивал эту тему на лекции в Лондонском университете, включенной в его опубликованную посмертно книгу «Психология и политика» (Psychology and Politics). Это единственный известный мне пример обсуждения этого вопроса, способный претендовать на научность. В лекции излагаются антропологические данные, демонстрирующие, что социализм не противоречит природе человека в Меланезии; затем указывается, что мы не знаем, одинакова ли человеческая природа в Меланезии и в Европе; и делается вывод, что единственный способ выяснить, противоречит ли социализм природе европейского человека, – это попытаться его внедрить. Интересно, что на основании такого заключения он согласился стать кандидатом от лейбористов. Однако в нем определенно не нашлось бы тех жара и страсти, без коих обыкновенно не обходятся политические споры.
А сейчас я рискну затронуть тему, к которой людям еще сложнее относиться беспристрастно, а именно брачные обычаи. Большинство жителей любой страны убеждено, что все брачные обычаи, кроме их собственных, аморальны и что те, кто оспаривает эту точку зрения, просто пытаются оправдать свою распущенность. В Индии даже мысль о том, что вдова могла бы вступить в повторный брак, традиционно считается чудовищной. В католических странах развод полагают делом весьма безнравственным, однако кое-какие нарушения супружеской верности допускаются – по крайней мере для мужчин. В Америке развестись легко, но внебрачные отношения осуждаются крайне сурово. Магометанцы верят в многоженство, которое мы считаем унижающим человеческое достоинство. Все эти разнообразные мнения защищаются донельзя горячо, а тех, кто идет против них, ожидает весьма жестокое преследование. Однако ни в одной из этого множества стран никто не прилагает ни малейшего усилия к тому, чтобы продемонстрировать, что обычаи его собственной страны более способствуют человеческому счастью, чем обычаи других.
Открыв любой научный трактат на эту тему, такой как (например) «История человеческого брака» (History of Human Marriage) Вестермарка, мы столкнемся с атмосферой, чрезвычайно отличной от атмосферы общепринятых предрассудков. Мы обнаружим, что человеческая история знавала самые разные обычаи, многие из которых показались бы нам противными человеческой природе. Нам кажется, что мы можем объяснить многоженство – как обычай, навязанный женщинам угнетателями-мужчинами. Но что тогда сказать о тибетском обычае, согласно которому одной женщине дозволяется иметь нескольких мужей? И при том путешественники, побывавшие в Тибете, уверяют, что семейная жизнь там по меньшей мере столь же гармонична, как в Европе. Совсем немного подобного чтения, и вскоре любой беспристрастный человек дойдет до абсолютного скептицизма, ведь данных, позволяющих утверждать, что один брачный обычай лучше или хуже другого, кажется, вовсе не существует. Почти все они сопровождаются жестокостью и нетерпимостью по отношению к нарушителям местных норм поведения, но в остальном у них нет ничего общего. Похоже, грех имеет географическую привязку. От этого вывода рукой подать до дальнейшего вывода о том, что понятие «греха» иллюзорно и что жестокость, с которой за него обычно наказывают, излишня. А вот этот вывод уже весьма противен многим умам, ведь проявлять жестокость, не замарывая при этом совести, – излюбленное развлечение моралистов. Для того они и выдумали преисподнюю.