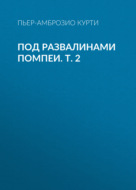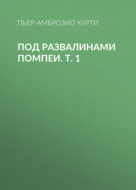Kitobni o'qish: «Кадис»
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2009
© ООО «РИЦ Литература», 2009
* * *
I
Февральским утром 1810 года я покинул остров Леон, где служил в гарнизоне, и отправился в Кадис, повинуясь столь же краткому, сколь и сдержанному приглашению, которое некой даме угодно было мне прислать. Стоял чудесный, веселый и ясный день, обычный для Андалузии. Вместе с другими товарищами, шедшими в том же направлении, хотя и с иной целью, я шагал по длинному перешейку, который служит тому, чтобы материк не имел несчастья быть отделенным от Кадиса. По дороге мы осмотрели замечательные укрепления – Торрегорду, Кортадуру и Пунталес, побеседовали с монахами, с важными персонами – руководителями фортификационных работ; поспорили о том, достаточно ли отчетливо, видны позиции французов по другую сторону бухты, выпили по стаканчику в таверне Поэнко близ Пуэрта-де-Тьерра1 и наконец распрощались на площади Сан-Хуан-де-Дьос, откуда каждый из нас направился по своим делам. Это было, повторяю, в феврале, не скажу точно, в какой именно день, но несомненно в начале месяца, ибо у всех был еще жив в памяти наш гордый ответ французам: «Город Кадис, верный своей присяге, не признает иного короля, кроме сеньора дона Фердинанда VII. 6 февраля 1810 года»2. Когда я дошел до своей цели на улице Вероники, хозяйка дома, донья Флора, сказала мне:
– Меж тем как графиня с нетерпением ожидает юного кабальеро, он изволит коротать время с веселыми красотками в таверне Поэнко!
– Сеньора, – ответил я, – клянусь, что у Поэнко я не видел ни одной девушки, кроме Пены Игадос, по прозвищу Пышка, и Марии де лас Ньевес из Севильи. И да будет Бог мне свидетель, мы задержались там не больше часа, и лишь затем, чтобы не заслужить упрека в невоспитанности и неучтивости.
– Какая неслыханная наглость! – воскликнула разгневанная донья Флора. – Знайте, кабальеро, мы с графиней весьма недовольны вами, да, сеньор. С прошлого месяца, когда моей подруге посчастливилось напасть на след этой заблудшей овечки в Пуэрто, вы посетили нас не более двух или трех раз, предпочитая проводить свой досуг среди солдат и веселых девиц, вместо того чтобы искать общества серьезных и воспитанных особ, столь полезного неопытным юнцам. Что сталось бы с тобой, – прибавила донья Флора, неожиданно смягчаясь и переходя на задушевный тон, – что сталось бы с тобой, юное создание, брошенное в столь нежном возрасте в водоворот жизни, если бы мы, сжалившись над твоим сиротством, не приголубили и не приютили тебя, укрепляя здоровой, вкусной пищей твою плоть и мудрыми советами твой дух! Несчастное дитя!.. Ладно, не стану больше тебя бранить, плутишка. Ты прощен. Обещай с сегодняшнего дня не заглядываться больше на бессовестных девиц, которые посещают таверну Поэнко. Сын мой, цени общество достойных, порядочных людей, имеющих определенный вес и положение… Скажи-ка мне, что ты хочешь на завтрак? Ты останешься у нас до утра? Может, ты ранен, контужен и тебе требуется перевязка? Если захочешь отдохнуть, не забудь, что рядом с моей комнатой тебя ждет уютная спаленка.
Свои слова донья Флора подкрепляла чудесной гаммой жестов и подмигиваний, милыми гримасками, неожиданным взлетом бровей, выразительным оттопыриванием губ и прочими ужимками, которые стремительно чередовались на ее ухоженном, искусно подкрашенном лице. После того как я – полушутя-полусерьезно – принес ей свои извинения, она принялась отдавать приказания относительно моего завтрака; раскаты ее властного голоса еще гремели на весь дом, когда в гостиную, с трудом сдерживая смех, вошла графиня, которая из соседней комнаты слышала, как отчитывала меня донья Флора.
– Моя подруга права, – сказала мне графиня после приветствия, – сеньор дон Габриэль – ветреный юноша, и не худо бы держать его в ежовых рукавицах. Слыханное ли дело – желторотый птенец заглядывается на хорошеньких девушек! Какое бесстыдство! Ему впору заниматься в школе или сидеть пришитым к юбке какой-нибудь серьезной, положительной особы, кладезю назидательных советов!.. Приберите юношу к рукам, донья Флора, направьте его сердце на путь возвышенных чувств, растолкуйте ему, что истый кабальеро обязан питать уважение к достопочтенным памятникам древности.
Выйдя из комнаты, донья Флора вернулась, неся две штуки шелковой ткани, желтой и алой, и тут же принялась с помощью горничной мастерить нечто вроде классической туники или хитона, обшивая ее серебряным галуном. Зная слабость доньи Флоры к экстравагантным туалетам, я подумал было, что странное одеяние готовится для нее, но, убедившись, что их скроено немалое количество, решил, что скорее всего они предназначены для театральных статистов или цирковых наездников.
– До чего же вы ленивы, сеньора графиня! – воскликнула донья Флора. – Ну как с вашим талантом к шитью не помочь мне выполнить заказ для «Крестоносцев Кадисской епархии»3, которым предназначено покончить с Францией и королем Жозефом?
– Мне не по душе, дорогая моя, терять время на глупости, – ответила моя бывшая госпожа. – Если уж надо колоть пальцы иголкой, то я предпочитаю по-прежнему шить белье для наших бедных солдатиков, которые пришли с Альбукерке из Эстремадуры4 такими жалкими и оборванными, что больно на них смотреть. Поверьте, дорогая донья Флора, они, и только они, изгонят французов, а не эти уроды крестоносцы во главе с вашим доном Педро дель Конгосто, самым безумным среди всех безумцев нашей земли, прошу прощения за правдивые слова.
– Голубушка моя, не говорите подобных вещей при этом невинном юнце, – взмолилась донья Флора с плохо скрываемым удовлетворением, – а то он, чего доброго, вообразит, будто славный военачальник крестоносцев, ради которого я тружусь с иголкой в руке, питал ко мне когда-либо иные чувства, кроме чистейшей привязанности, не запятнанной ничем таким, что Дон Кихот именует «вызывающим кокетством». Увидев меня впервые в доме моего кузена дона Алонсо, дон Педро полюбил меня столь самозабвенно, что во всей Андалузии он не нашел другой женщины, достойной хотя бы одного его взгляда. С той поры и по сие время его поклонение приобретает с каждым годом все более утонченный, возвышенный и платонический характер. Свои чувства ко мне он неизменно выражает в наипочтительнейшей манере, и за все долгие годы нашего знакомства он не посмел меня коснуться и кончиком пальца. Люди толковали, будто мы склонны вступить в брак. Но не говоря уже о том, что мне ненавистно все напоминающее мужчину, дон Педро до корней волос вспыхивает при подобных толках, усматривая в них прямое оскорбление своей и моей скромности.
– Да и не годится шестидесятилетний дон Педро в мужья такой молодой и свежей женщине, как вы, мой друг, – сказала, смеясь, Амаранта. – А раз уж мы заговорили об этом, не сочтите мой совет навязчивым или нескромным, но, право, вам следовало бы поторопиться с замужеством, дабы не угас прекрасный род Гутьерреса де Сисньега. При этом надо выбирать мужа подходящего, другими словами, не такую старую худую клячу, как дон Педро, а нежного юнца, способного внести в дом радость, ну, к примеру, нашего Габриэля, который нас слушает и несомненно будет счастлив взвалить себе на плечи столь сладостное бремя.
Уплетая завтрак и прислушиваясь к остроумному разговору двух дам, я соглашался решительно со всеми доводами Амаранты, но донья Флора, угощавшая меня с отменной учтивостью, воскликнула, негодуя:
– Господи Иисусе, ну чему вы, друг мой, учите этого бедного ребенка, который, по счастью, не понимает ничего, кроме команды построиться по четыре в ряд? Зачем кружите ему голову?.. Габриэль, не слушай. И не вздумай по наущению милой плутовки графини свернуть с пути истинного, а то, пожалуй, вдруг начнешь рассыпаться в комплиментах, вздыхать и заливаться слезами. Дети – в школу. Чего только не выдумает эта Амаранта! Дорогая моя, да разве мальчик железный! Его счастье, что он встретил женщину с добрым сердцем, одинаково умеющую как укрощать безрассудные порывы юности, так и побеждать козни врага. Запасись терпением, Габриэль, не торопись, спокойно жди своей судьбы, уготованной тебе Богом. Да, жди, но без жарких, восторженных чувств и юношеского сумасбродства. Помни, ничто так не украшает благородного и деликатного юношу, как осторожность. И наконец, учись у дона Педро дель Конгосто, учись у него. Бери пример с его почтительности, с его суровости, с его твердости, с его неизменного платонического бесстрастия. Учись у него обуздывать свои порывы, нарочитой учтивостью выражений охлаждать пылкость мыслей, гасить любовный огонь, держать в узде свои руки, язык и сердце, готовое вырваться из груди.
Мы с Амарантой едва подавляли желание расхохотаться. Тут в коридоре послышались шаги, и горничная, войдя, доложила о приходе кабальеро.
– Это англичанин, – сказала Амаранта. – Поспешите принять его.
– Иду, иду, друг мой. Посмотрим, не удастся ли мне выпытать у него то, что вам хотелось бы узнать.
Мы с графиней остались вдвоем и смогли не спеша, спокойно, без свидетелей поговорить, в чем читатель убедится, если у него хватит на то терпения.
II
– Габриэль, – сказала мне графиня, – я вызвала тебя, желая сообщить, что вчера на небольшом судне прибыл из Картахены в Кадис наш несравненный дон Диего, граф де Румблар, сын моей родственницы, величественной и монументальной сеньоры доньи Марии.
– Я не сомневался, – ответил я, – что этот повеса вскоре появится в Кадисе. Не прихватил ли он с собой какого-нибудь молодчика из Вистильяс5 или завсегдатая сборищ у сеньора Мано де Мортеро?6
– Не знаю, приехал ли он один или со своими дружками. Но мне известно, что мать весьма обрадовалась неожиданному появлению сынка, а тетушка, то ли желая уязвить меня, то ли и в самом деле обнаружив перемену в характере племянника, заявила вчера в присутствии всей семьи: «Если молодой граф станет вести себя, как подобает серьезному человеку, он заслужит наше расположение и получит право на высшую награду, какую только смогут предложить ему две семьи, желающие соединиться».
– Сеньора графиня, на вашем месте я посмеялся бы и над доном Диего, и над злыми кознями всех престарелых маркиз с их дворянскими грамотами.
– Ах, Габриэль, это легко сказать, ведь ты ничего не знаешь! – воскликнула с огорчением графиня. – Поверишь ли, они делают все, чтобы отнять у меня любовь и привязанность дочери. Сперва они разлучили ее со мной, а несколько дней назад решительно запретили Инес бывать у меня и закрыли передо мной двери своего дома. Кончится тем, что моя дочь совсем отвыкнет от меня. Бедная девочка не виновата: она ведь не подозревает, что я ее мать, редко меня видит и, хочешь не хочешь, слушает их наговоры… Один Бог знает, на что они только не решатся, чтобы посеять в ее сердце ненависть ко мне. Скажи, разве это не самое тяжкое наказание, какое только можно себе представить? И разве я не вправе после этого умирать от ревности, самой худшей, мучительной и безнадежной ревности, которая рвет на части сердце женщины? Понимая, что они задумали отнять у меня дочь, лишить меня единственного утешения в жизни, я прихожу в такую ярость, что чувствую себя способной совершить поступок, недостойный моего положения и имени.
– Ваши невзгоды, – сказал я, – отнюдь не кажутся мне такими тяжкими и непоправимыми, как вы это себе рисуете. Вы можете потребовать свою дочь и навсегда взять ее к себе.
– Это трудно, очень трудно. Разве ты не понимаешь, что по закону у меня нет никакого права вернуть ее в мой дом? Они объявили мне войну не на жизнь, а на смерть. Вообрази, они добиваются моего изгнания из Кадиса и не остановились даже перед тем, чтобы объявить меня сторонницей французов. Недавно, как ты знаешь, они пытались тайком от меня бежать в Португалию; мне удалось помешать этому, помнишь, я явилась к ним вечером вместе с тобой и пригрозила публично разоблачить их планы. Графиня де Румблар всей душой возненавидела меня, узнав, что я решительно возражаю против брака Инес с ее непутевым сыном. Моя тетка, помешанная на достоинстве дома и фамильной чести, доставляет мне еще больше огорчений, чем графиня, движимая злобой и алчностью. Живи я в Мадриде, где у меня большие связи и возможности, мне было бы нетрудно преодолеть все эти помехи. Но мы находимся в Кадисе, в осажденном городе, где у меня мало друзей, меж тем как моя тетка и графиня де Румблар с их показным патриотизмом пользуются здесь благосклонностью всех власть имущих. Представь себе, что им удастся добиться моего изгнания и, пользуясь моим отсутствием, они обманом насильно выдадут бедную девочку замуж. Вообрази на минуту, что это произойдет, и…
– О сеньора! – с жаром воскликнул я. – Этого не случится, пока живы вы и я. Поговорим с Инес, откроем ей то, что ей уже давно надлежит знать…
– Расскажи ей обо всем, если у тебя хватит смелости…
– Как, вы думаете, у меня не хватит смелости?
– Я должна коснуться еще одного вопроса, о котором ты ничего не знаешь, Габриэль. Это огорчит тебя, но тебе пора узнать правду… Ты полагаешь, что все еще имеешь над Инес ту власть, которую имел недавно и сохранял некоторое время после того, как ее положение резко изменилось?
– Простите, сеньора, но я не в силах поверить, будто потерял эту власть. Не взыщите за самоуверенность.
– Несчастный мальчик! – произнесла графиня с нежным сожалением. – Жизнь соткана из тысячи мучительных перемен, и тот, кто слепо верит в постоянство любезных его сердцу чувств, похож на мечтателя, принимающего тучи на горизонте за неподвижные горы. Миг – и луч света изменит их очертания, если только порыв ветра не разгонит их раньше. Два года назад моя дочь и ты были беспомощными, покинутыми детьми. Оторванность от мира и общие невзгоды укрепили вашу естественную склонность. Так родилась любовь. Потом все изменилось. Но к чему повторять то, что тебе давно известно? Когда жизнь Инес так счастливо преобразилась, она не забыла верного товарища своих черных дней. Это прекрасное чувство, и никто не способен оценить его больше меня. Я относилась к нему весьма терпимо и даже поощряла его из желания уязвить гордость моей знатной родственницы. Но я знала, что разлука и время положат конец детскому увлечению, как это на самом деле и произошло.
Я был ошеломлен, слова графини рассеяли плотную пелену, за которой скрывалась истина. Впрочем, разум советовал мне не принимать на веру слова женщины, столь изощренной в обманах, и я выжидающе молчал, стараясь сделать вид, будто примирился с полученным ударом.
– Помнишь тот вечер, когда мы прибыли сюда из порта Санта-Мария? Здесь, в этой самой гостиной, нас встретила донья Флора. Мы вызвали Инес, она увидела тебя, ты говорил с ней. Бедняжка была так взволнована, что отвечала невпопад. Без сомнения, она сохраняет к тебе чистую и благородную привязанность сестры, но ничего больше. Неужто ты не понял, Габриэль, не заметил и не почувствовал, что Инес уже не любит тебя?
– Сеньора, – ответил я в смущении, – наша встреча была столь краткой, вы так настойчиво уговаривали меня покинуть дом, что я просто не успел заметить никакой перемены.
– Так вот, можешь мне поверить. Я знаю, что Инес больше тебя не любит, – проговорила она так убежденно, что в этот миг я возненавидел мою прекрасную собеседницу.
– Вы уверены в этом?
– Да.
– Возможно, вы ошибаетесь.
– Нет, Инес тебя больше не любит.
– Почему? – порывисто и резко спросил я.
– Да потому, что она любит другого, – услышал я спокойный ответ.
– Другого?! – воскликнул я, настолько потрясенный, что долгое время даже не мог отдать себе отчет в своих переживаниях. – Другого? Этого не может быть, графиня. Кто он? Я хочу знать.
Я говорил, а сердце мое сжималось от невыносимой боли, казалось, в него впился клубок ядовитых змей, терзая и разрывая его на части. Я пытался сохранить видимое спокойствие, но невнятная речь и прерывистое дыхание слишком ясно давали понять, что я уязвлен, пал духом и утратил самообладание.
– Ты хочешь знать? Ну что же, могу сказать. Это один англичанин.
– Тот самый? – спросил я, вздрогнув и указав на дверь в гостиную, из которой доносились голоса доньи Флоры и ее гостя.
– Тот самый.
– Сеньора, этого не может быть, вы ошибаетесь! – крикнул я, не в силах сдержать гнева, вспыхнувшего пламенем наперекор всем доводам рассудка и требованиям вежливости. – Вы насмехаетесь надо мной, вы унижаете и топчете мою гордость, как делали это всегда!
– Какой взрыв ярости! – воскликнула она, смеясь. – Успокойся, не безумствуй.
– Простите, если оскорбил вас резким словом, – проговорил я, опомнившись, – но я не могу поверить сказанному. Все, чем я живу, восстает против такой мысли. Я поверю лишь в том случае, если услышу подтверждение из уст Инес. Иначе – нет. Пусть я слепой глупец, сеньора, но мне ненавистен луч света, которым вы пытаетесь осветить страшную бездну, разверзшуюся у моих ног. И, наконец, вы еще не сказали мне, кто он, этот англичанин, на чем основано предположение…
– Этот англичанин появился здесь полгода назад, вместе со своим другом лордом Байроном, который недавно уехал на Восток. Имя того, что остался здесь, лорд Грей. Ты хочешь знать, на чем основано мое предположение, что Инес его любит? Об этом говорит тысяча признаков, они меня не обманывают, да и не могут обмануть женщину с моим опытом. Ты удивлен? Наивный мальчик, ты вообразил, что в мире все создано тебе на радость. Как раз наоборот, дитя мое. Почему ты считаешь, что Инес будет любить тебя всю жизнь наперекор вашей разлуке, которая в этом возрасте равносильна забвению? Не слишком ли многого ты захотел? Нечего сказать, скромные требования! Год за годом Инес будет верна своей любви, вечно… Как бы не так! Привыкни к мысли, что в мире, кроме тебя, существуют и другие мужчины, а у молодых девушек имеются глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать.
Слова графини, заключавшие в себе глубокую истину, наносили мне один смертельный удар за другим. У меня было такое чувство, будто графиня острыми ножницами кромсает мою душу, чтобы потом развеять ее по ветру.
– Ну так вот. Время шло, – продолжала она. – В Кадисе появился англичанин и нанес нам визит. Теперь он часто посещает другой дом, в котором любим… Тебе это кажется невозможным, невероятным. Но это самое обычное явление в жизни. Ты, может, думаешь, что англичанин – человек неприятный, грубый, резкий, с красным лицом, прямой как палка – словом, один из тех пьяниц, которых ты видал в детстве на площади Сан-Хуан-де-Дьос? Ничего подобного, лорд Грей человек утонченный, широкообразованный, с прекрасной внешностью. Он принадлежит к одному из лучших семейств Англии и богат, как перуанец…7 Вот… А ты полагал, что подобными достоинствами обладает лишь сеньор дон Габриэль Ломаный Грош! Какое заблуждение! Но слушай дальше. Лорд Грей пленяет всех девушек своей приятной беседой. Вообрази, он так молод, а уже успел объездить всю Азию и часть Америки. Его познания огромны, рассказы о виденном и пережитом волнуют и захватывают слушателей. Кроме того, он обладает редкой отвагой. Он испытал тысячу опасностей в борьбе с природой и людьми и повествует о них со столь пылким красноречием и поразительной скромностью, стараясь преуменьшить свои заслуги и умолчать о подвигах, что, слушая его, невозможно удержаться от слез. У него есть книга с изображением ландшафтов, зданий, развалин, одежды и различных типов людей – все это он зарисовал в далеких краях; на свободных страницах изложены стихами и прозой тысяча прекрасных мыслей, суждений и описаний, исполненных высокой, красочной поэтичности. Понимаешь теперь, что такой человек может без труда внушить к себе любовь? Он входит в гостиную, девушки окружают его, и он принимается так искренне, так живо рассказывать о своих странствиях, что мы словно воочию видим перед собой высокие горы, полноводные реки, огромные азиатские деревья, леса, где путника на каждом шагу подстерегают опасности, мы видим отважного европейца, который вступает в борьбу с разъяренным львом или сражается с коварным тигром. Перед нами бушуют бури в Китайском море, ветер гонит и кружит корабль, словно щепку, и мы видим, как путник спасается от смерти лишь благодаря своей силе и ловкости. Перед нашими глазами расстилаются пустыни Египта с его светлыми, точно день, ночами, с пирамидами, рухнувшими храмами, с Нилом и бедными арабами, которые влачат жалкую жизнь на бесплодных просторах. Потом он говорит нам о несравненной Венеции, о городе, построенном на море, где вместо улиц каналы, а по каналам скользят гондолы – так называются в Венеции лодки, по вечерам в них катаются влюбленные пары – одни среди безмолвия спокойной лагуны. Он странствовал по Америке, где кроткие дикари ласково встречают путника; там реки водопадами низвергаются с высоких скал, взметая облака пены с таким ревом и грохотом, что кажется, будто половина океана обрушилась с высоты на другую половину, и гул разносится далеко вокруг. Все его рассказы горят такими живыми, трепетными красками, что картины встают перед нами одна за другой. О своих героических подвигах он говорит с предельной простотой, никогда не задевая самолюбия мужчин, которые слушают его с неменьшим вниманием, чем женщины, и почти с таким же удовольствием. Так вот, мой бедный Габриэль, ты теперь, надеюсь, понял, что обаятельному лорду Грею было нетрудно пленить пылкое воображение впечатлительной девушки, которая невольно обратила свой взор на того, кто так выделяется из толпы самовлюбленной посредственности. И наконец, лорд Грей сказочно богат. Конечно, деньги не могут заменить природных достоинств, но, если мужчина этими достоинствами обладает, каким великолепным фоном служит для них богатство. Лорд Грей прекрасно одевается, живет с размахом, умеет достойно принять своих друзей, но при этом его щедрость отнюдь не похожа на расточительство молодого вертопраха – человек из богатой, родовитой семьи, он привык к роскоши и любит тратить деньги на благо и удовольствие всех, кто его окружает. Он галантен без аффектации и скорее серьезен, чем весел. Ты теперь понял, бедняжка? Сообразил, что на свете может найтись человек, вполне способный поспорить с сеньором доном Габриэлем Ломаный Грош? Поразмысли, мальчик, хорошенько поразмысли, кто ты такой. Славный юноша, и только. Прекрасное сердце, природный ум – не спорю, ну а дальше что? Положение – начинающий офицер… Правда, ты успел отличиться, так что из этого? Недурная внешность… в разговоре ты талантами не блещешь, происхождение весьма скромное, хотя, возможно, ты считаешь себя отпрыском знатной семьи. Отвага – не отрицаю, даже больше; смелостью ты обладаешь в избытке, но блеснуть ею не умеешь. Начитанность скудная… манеры хорошие… Да, друг мой, несмотря на все твои немалые достоинства, ты беден, живешь скромно, так неужто ты претендуешь быть незаменимым, как наш бедняга Карл Четвертый8, унаследовавший корону от своего отца? Нет, Габриэль, лучше успокойся и смирись.
Беспощадная отповедь произвела на меня ошеломляющее впечатление. Я был так подавлен, словно Амаранта обрушила на меня Муласен, эту высочайшую гору Испании.
Вот, сеньоры, именно так я чувствовал себя в эту минуту.
III
Что мог я возразить? Ничего. Что мне следовало делать? Молча страдать. Но человек, придавленный горой, редко смиряется со своей участью, и даже в том случае, если катастрофа представляется справедливой и заслуженной карой, он все же поднимает слабеющие руки и пытается сбросить рухнувшую на него громаду. Не знаю, руководило ли мной благородное чувство собственного достоинства или помогло суетное ребяческое тщеславие, но я сумел притвориться, будто не только смирился с нанесенным мне ударом, но совершенно безразличен к нему.
– Сеньора, – твердо сказал я, – мне известно, что я ничего собой не представляю. Я давно все обдумал, и вы меня ничуть не удивили. В самом деле, было бы непростительной дерзостью, если бы такой бедняк, как я, которому не доводилось ни путешествовать по Индии, ни созерцать иные водопады, кроме водопадов на реке Тахо в Аранхуэсе, посмел претендовать на любовь девушки с блестящим положением в свете. Человеку, лишенному знатности и богатства, не остается ничего другого, как предложить свое сердце поломойке или служанке, к тому же без достаточной уверенности, что они удостоят принять его. Вот почему мы смиряем свою гордость, сеньора, и, получив удар вроде того, что вы соизволили мне нанести, пожимаем плечами и говорим себе: «Терпение». И продолжаем жить, есть и спать… Было бы глупо умереть ради той, которая так быстро нас забыла.
– Ты рассвирепел, но пытаешься притвориться спокойным, – сказала мне с насмешкой графиня. – Если ты пылаешь от гнева, на, возьми мой веер, он охладит тебя.
И прежде чем я успел протянуть руку, графиня стремительным движением помахала веером перед моим лицом. Я рассмеялся, хотя мне было не до смеха, а она, помолчав, сказала:
– Я должна добавить еще два слова, едва ли они придутся тебе по вкусу, но запасись терпением. Я рада, что моя дочь отвечает на любовь англичанина.
– Само собой разумеется, сеньора, – ответил я, стиснув челюсти с такой яростью, словно мне в рот попала чудом вся Великобритания.
– Да, – продолжала она, – я приветствую все, что дает мне надежду увидеть мою дочь свободной от деспотической опеки маркизы и графини.
– Но англичанин, по всей вероятности, протестант.
– Над этим я не желаю задумываться, – отрезала графиня. – Возможно, он примет католичество. Но знай, меня ничто не остановит. Лишь бы моя дочь обрела свободу и я могла бы с ней видеться и говорить, как и когда желаю, а все остальное… Воображаю ярость доньи Марии, когда она поймет… Все должно остаться в тайне, Габриэль, я рассчитываю на твою скромность. Будь лорд Грей католиком, моя тетка едва ли воспротивилась бы его браку с Инес. Потом мы отправились бы втроем в Англию, далеко-далеко отсюда, в страну, где нет никого из моих родственников. Какое это было бы счастье! Ах, отчего я не папа римский, уж я бы разрешила девушкам-католичкам выходить замуж за еретиков.
– Надеюсь, ваше желание исполнится.
– О, я далеко не уверена в этом. Несмотря на свои огромные достоинства, англичанин ведет себя довольно странно. Он решительно никому не доверяет своих сердечных тайн, мы только догадываемся о них по некоторым признакам, а потом они подтверждаются неопровержимыми доказательствами – результат нашего долгого и осторожного наблюдения.
– Инес, наверное, открыла вам свою тайну.
– Нет, ведь я совсем не вижу ее. Это ужасно. По распоряжению доньи Марии три девушки уже давно не выходят из дому без охраны. Мы с доньей Флорой прилагаем неслыханные усилия, пытаясь заслужить доверие лорда Грея и выведать его тайну; но он молчит и бережет ее, как скряга свое сокровище. Кое о чем мы знаем через служанок или из суждений немногих лиц, вхожих в дом. Без сомнения, все это правда, друг мой. Смирись, не огорчай нас и не вздумай кончать самоубийством.
– Самоубийством? – переспросил я равнодушным тоном.
– Успокойся, успокойся, ты весь горишь, – твердила Амаранта, обмахивая меня веером. – Дон Родриго у подножия виселицы не держался с такой гордостью9, как этот недозрелый генерал.
Тут я услышал голос доньи Флоры и мужские шаги. Донья Флора говорила:
– Входите, милорд, графиня ждет вас.
– Посмотри… увидишь, – сказала мне беспощадная Амаранта, – и сможешь сам судить, что у девушки неплохой вкус.
Вошла Флора, за нею англичанин. В жизни не случалось мне видеть такого красавца. Он был высокого роста, с удивительно белой, несмотря на загар, кожей, как это часто бывает у моряков и путешественников с Севера. Белокурые волосы по моде того времени небрежными локонами в беспорядке ниспадали на шею. По виду ему было не более тридцати – тридцати трех лет. Он выглядел серьезным и грустным, но держался просто, без нарочитой напыщенности, столь свойственной англичанам. Золотистый загар покрывал его лицо от середины лба до шеи, но горло и лоб выше линии шляпы хранили ослепительную белизну нежного воска. Тщательно выбритый подбородок был такой округлый, как бывает только у женщин; освещенный полуденным солнцем, англичанин походил на отлитую из золота статую. Однажды мне случилось видеть изображение бога Брамы, и вот теперь, много лет спустя, я, глядя на лорда Грея, вспомнил о нем.
Англичанин был одет элегантно, с некоторой едва заметной небрежностью; пальто наполовину скрывало его синий тонкого сукна костюм, в руках он держал круглую шляпу – такой фасон только начинал тогда входить в моду. На нем сверкали драгоценности – в те времена мужчины чаще, чем ныне, носили кольца; часы его были украшены брелоками. В общем, он обладал привлекательной внешностью. Я смотрел на него и с жадностью искал хоть какие-нибудь недостатки, но – увы! – не нашел ни одного. Меня глубоко огорчила его на редкость правильная испанская речь – ведь я ожидал, что он заговорит на смешном, ломаном языке; тщетно я утешал себя мыслью, что вот-вот услышу от него какие-нибудь глупости, но он не произнес ни одной.
Вступив в разговор с Амарантой, англичанин старался обойти молчанием тему, которую пыталась навязать ему, войдя в гостиную, донья Флора.
– Дорогой друг, – сказала она, – лорд Грей расскажет нам о своих любовных делах в Кадисе, это еще интереснее, чем повествования о путешествиях по Азии и Африке.
Амаранта торжественно представила меня гостю как выдающегося военного, второго Юлия Цезаря по стратегическим талантам и двойника самого Сида10 по храбрости; она добавила, что я сделал блестящую военную карьеру и при обороне Сарагосы11 удивил своими героическими подвигами как испанцев, так и французов. Иностранец с видимым удовольствием выслушал похвалы Амаранты, задал мне ряд вопросов по поводу войны и в заключение выразил желание стать моим другом. Его изысканная учтивость привела меня в ярость, но волей-неволей мне приходилось отвечать ему тем же. Зловредная Амаранта исподтишка смеялась над трудным положением, в которое я попал, и нарочитыми восхвалениями старалась еще сильнее раздуть внезапную симпатию и интерес англичанина к моей особе.
– Нынче в Кадисе отношения между испанцами и англичанами весьма обострились, – сказал лорд Грей.
– А я и не подозревала этого! – воскликнула Амаранта. – Так вот к чему привел наш союз.
– Это пройдет, сеньора. Мы несколько грубоваты, а испанцы чуть-чуть хвастливы и слишком уверены в своих силах, впрочем, почти всегда с полным основанием.
– Французы подходят к воротам Кадиса, – сказала донья Флора, – а нам, оказывается, не хватает людей для защиты города.
– Похоже на то. Вот почему Уэлсли12 обратился к хунте за разрешением, – добавил англичанин, – высадить с наших кораблей моряков для обороны укреплений.