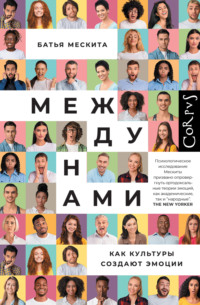Kitobni o'qish: «Между нами. Как культуры создают эмоции», sahifa 4
Впоследствии Така Масуда повторил это исследование, использовав вместо рисунков фотографии настоящих лиц68. Как и раньше, североамериканцы (на этот раз в исследовании приняли участие канадские студенты) воспринимали эмоции MINE – они оценивали только выражение лица человека, стоящего в центре снимка, – но японцы воспринимали эмоции OURS, учитывая и выражение главного героя, и выражения четырех окружающих его людей. Хотя и североамериканских, и японских респондентов просили оценить эмоции главного героя – Джона или Таро, – североамериканцы считали его эмоции внутренними, отдельными от эмоций окружающих, а японцы рассматривали их как нечто происходящее между разными людьми.
Психические или социальные: чувства или действия?
Идея о том, что эмоции – это в первую очередь психические состояния, не столь универсальна, как я думала ранее. На самом деле эмоции воспринимаются как чувства довольно редко – как исторически, так и географически. Описывая эмоции, представители многих культур рассматривают их как (социальные) действия. Есть основания полагать, что исторически это было стандартом69. Гомер описывал, как Пенелопа ворочалась, не в силах заснуть, а не ссылался на психическое состояние, в котором она пребывала (нерешительность? напряженность?). Как отмечают специалисты по Древней Греции, в гомеровский период греки, как правило, предпочитали представлять эмоции в виде конкретных наблюдаемых действий, а не внутренних психических состояний70.
Впрочем, нет никакой необходимости взывать к столь далеким от нас древним грекам, чтобы понять, что эмоции заключены не только в чувствах, но также в действиях и что четкого различия между этими двумя типами не существует. Даже в раннее Новое время (до XIX века) люди в США не считали гнев и любовь глубокими чувствами, а определяли их через действия – например, “холодный взгляд” или “теплые объятия”71. Эмоции были ближе к социальным действиям, чем к психическим состояниям.
Культуры, отдаленные от нашей в пространстве (а не во времени), тоже описывают эмоции как социальные действия, а не чувства. Антрополог Эдвард Шиффелин называет представителей народа калули, обитающего в Папуа – Новой Гвинее, “чрезвычайно страстными”, но отмечает, что калули редко приписывают чувства, мотивы и намерения другим людям72. Мужчины калули устраивают настоящие истерики, когда другие обижают их или просто им докучают. Они кричат друг на друга и бросаются взаимными обвинениями и угрозами. Экспрессивные проявления эмоций рассчитаны на сочувствие и поддержку со стороны окружающих. И все же, несмотря на открытость этих аффективных проявлений, информанты не отвечают на вопросы о том, что чувствует другой человек. Они говорят: “Я не знаю”. Они не судят о чувствах по тому, что видят73.
Подобным образом самоанцы, эмоциональный мир которых описан антропологом Элеанор Охс, называют “любовью” (алофа) проявления щедрости: когда люди делятся друг с другом пищей, деньгами и работой. И снова здесь не делается никаких отсылок к субъективному чувству74. Антрополог Суламифь Хейнс Поттер предполагает, что члены деревенского китайского сообщества подтверждают свое заботливое отношение друг к другу через труд. Усердный труд – и неизменно связанные с ним тяготы – служит символом любви и подтверждает статус отношений с другим человеком. Здесь важен не столько внутренний опыт самопожертвования и тяжелого труда, сколько “внешние результаты, особенно измеряемые”. Когда Поттер спрашивала своих информантов об эмоциональном опыте, они часто отвечали: “Неважно, что я чувствую”. Она поясняет: “Говоря так, они имеют в виду, что их чувства не имеют значения для понимания тех аспектов опыта, которые они сами считают важными для понимания”75. Китайцы, с которыми Поттер работала в ходе своего полевого исследования, несомненно, признавали существование таких психических состояний, как любовь, но гораздо бóльшую важность в их представлении имела готовность человека жертвовать собой через труд.
Скептически настроенный читатель может задуматься, не идет ли здесь речь лишь о разговорах об эмоциях: разве настоящие эмоции – психические состояния – не прячутся, даже не являясь центральным элементом культурного дискурса? Разве люди не распознают психические состояния по лицу, голосу и телу даже в тех культурах, где психические состояния не обсуждаются и не называются? Доцент Йельского университета Мария Гендрон изучила, как воспринимают эмоции других людей представители народа химба76. Полукочевые скотоводы химба, обитающие в горах на северо-западе Намибии, практически лишены контактов с Западом и имеют дописьменную культуру. В исследовании Гендрон и ее коллег, как и во многих других исследованиях выражений лиц, испытуемым показывали изображения лиц, на которых отражались радость, грусть, гнев, страх, отвращение и отсутствие эмоций. В отличие от других подобных исследований, респондентов просили на свое усмотрение распределить тридцать шесть картинок (по шесть для каждой из “базовых эмоций”) на группы, чтобы “каждый человек из группы испытывал одинаковую эмоцию”77. После этого Гендрон просила респондентов назвать каждую из выделенных ими групп, просто спрашивая: “Что в этой группе?” Описывая группы, химба упоминали некоторые слова, связанные с эмоциями, но чаще называли действия. Они говорили: “Здесь все смеются” или “Здесь все на что‐то смотрят”, – вместо того чтобы сказать: “Здесь все радостны” или “Здесь все испуганы”.
Гендрон и ее коллеги обратились с той же просьбой к респондентам из США – посетителям одного из бостонских музеев. Американцы описывали выделяемые группы, называя психические состояния. В среднем американские респонденты в сравнении с респондентами химба использовали более чем вдвое больше слов, связанных с чувствами (например, “радость”), а респонденты химба в сравнении с американскими респондентами использовали более чем вдвое больше слов, связанных с действиями (например, “смеются”). Гендрон и ее коллеги рассудили, что, если бы связи между лицами и чувствами действительно были прочными и возникли в ходе естественного развития, химба считывали бы гнев и отвращение с изображений лиц, на которых отражались соответствующие эмоции. Но этого не происходило: химба делали акцент на действиях, вместо того чтобы указывать на психические состояния. Почему?
Любопытно, что Гендрон и ее коллеги развернули вопрос и спросили: почему американцы видят на этих лицах психические состояния, если изображается явно только мимика? Гендрон пришла к выводу (к которому пришла бы и я), что современные американцы научились считывать “психические состояния” с изображений мимики78. Их снова и снова просили сосредоточиться на своих и чужих чувствах. Это научило их считывать психические состояния с лиц. Стоит отметить, что индивиды из культур, где господствует модель MINE, могут считывать с лиц действия79, а индивиды из культур, где господствует модель OURS, могут считывать с действий психические состояния80, но делать это ни те ни другие не спешат. Да, различия в акцентах на аспектах MINE и OURS имеют последствия: в этом случае для считывания происходящего с чужого лица.
Вместо того чтобы пытаться объяснить, почему представители многих других культур говорят о чувствах более скупо, я переформулирую вопрос таким образом: почему представители современных западных культур делают такой большой акцент на чувственном аспекте эмоций? Короткий ответ: мы этому научились.
С раннего детства детей в западных контекстах учат направлять внимание внутрь. Психолог Ци Ван описывает разговор трехлетки, которого я назову Джорджем, с матерью81. Мать и сын обсуждали, как Джордж разозлился, когда они пошли покупать подарки на Рождество. “Ты хотел там быть?” – спросила у Джорджа его мама. “Нет”, – ответил Джордж. “И что ты начал делать?” – спросила мама. “Драться”, – сказал он. Когда мама попросила его описать свое поведение подробнее, он добавил: “Царапаться”. После этого мама Джорджа перевела разговор на источник его чувств: “Ты помнишь, почему ты так разозлился?” Ответить на этот вопрос Джорджу оказалось непросто. Он и дальше перечислял свои действия. “[Я] кричал, – сказал он, а затем: – Плакал”. Мама Джорджа снова заговорила о его психическом состоянии: “Почему ты так разозлился?” – спросила она снова. Теперь Джордж понял ее вопрос. “Потому что я хочу делать только то, что хочу”, – сказал он. Этот ответ, похоже, удовлетворил его маму. “Понятно. Ты хочешь делать только то, что хочешь”. Мама подтолкнула Джорджа сосредоточиться на его чувствах, а затем помогла ему разобраться в них. Ван часто наблюдает такое поведение у американских матерей, которые являются объектами ее исследований: эти матери помогают своим детям понять, как их эмоции соотносятся с тем, что они хотят или думают. Они помогают им обращать внимание внутрь себя и описывать свои чувства.
Китайские матери из исследований Ван так не делают: вместо того чтобы помогать своим детям находить причину их чувств, они в гораздо большей степени, чем американские матери, акцентируют внимание на социальных последствиях поведения детей. Например, мама Цзяна напомнила своему сыну, как он разозлился накануне вечером, когда заплакал, потому что мама и бабушка не разрешили ему посмотреть телевизор. Не заостряя внимания на его чувствах, мама спросила у Цзяна: “Ты понимаешь, почему мы не разрешили тебе посмотреть телевизор?” Цзян тотчас ответил: “Вы боитесь, что у меня заболят глаза. Я хотел посмотреть Chao-Tian-Men. Я разозлился. Я настаивал, что должен его посмотреть”. В ответ мама не стала выяснять у Цзяна, что именно он почувствовал и какие у него были предпочтения, а напомнила ему о социальных последствиях его протеста. “И тебя отшлепали, так ведь?” – спросила она. Цзян кивнул.
Многие китайские матери из исследования Ци Ван используют эмоциональный опыт, чтобы учить детей, как себя вести, но американские матери из того же исследования этого не делают. Мама Цзяна отмечает, что Цзян поступил неправильно, когда попытался опротестовать запрет смотреть телевизор, и напоминает ему о негативных социальных последствиях его действий. Некоторые матери также используют эмоциональный опыт, чтобы указать на его позитивные социальные последствия. Например, мама Сюэсюэ в разговоре подчеркнула, что эмоциональная реакция ее трехгодовалой дочери – в данном случае грусть – весьма эффективна. “Сюэсюэ – хорошая девочка. Ты понимаешь, что совершила ошибку”, – сказала она, после того как Сюэсюэ признала, что ей стало “очень грустно”, когда она поругалась с сестрами, потому что они не разрешили ей рвать траву (что было запрещено). Если американские матери помогали детям замечать и понимать собственные чувства, то китайские учили детей воспринимать свои эмоции как действия, имеющие социальные последствия. Американское воспитание толкает людей смотреть внутрь, на эмоции MINE, а китайское направляет внимание наружу, на эмоции OURS.
Практически исключительный фокус на эмоциональных действиях и их социальных последствиях, несомненно, характерен не только для китайских матерей. Антрополог Эндрю Битти описывает, как взрослые на индонезийском острове Ява используют слова, связанные с эмоциями, чтобы объяснять детям, как вести себя в конкретных обстоятельствах, но при этом не применяют их при упоминании чувств и психических состояний82. Например, они используют слово исин, “стыд”, чтобы объяснить маленькому ребенку, что в присутствии незнакомцев и старших нужно проявлять сдержанность и вежливость. Словом исин описываются не чувства и даже не эмоциональные проявления, а норма поведения в определенных обстоятельствах. Взрослые учат детей соотносить свои эмоциональные проявления с социальными нормами – и внимание здесь снова направлено наружу, на эмоции OURS, а не внутрь, на личные чувства.
Можно сделать вывод, что даже по завершении социализации в раннем детстве другие люди в зависимости от культуры продолжают играть роль в направлении внимания индивида либо внутрь, на его чувства, либо наружу, на последствия его действий. В исследовании, которое я много лет назад провела в сотрудничестве с бельгийским психологом Бернаром Риме, мы обнаружили, что представители совершенно разных культур делятся большинством своих эмоциональных эпизодов с другими людьми83. Но голландцы и турки делятся эмоциями по‐разному – и это прекрасно показывают приведенные ранее примеры Мартина и Левента. Мартин обсудил свои эмоции с друзьями и близкими, и они, в свою очередь, помогли ему подтвердить, обосновать и более полно описать свои чувства. Левент разделил эмоции с родителями, которые помогли ему более громко заявить о своем успехе и отпраздновать его, чтобы больше людей узнало о его достижении и отметило его заслуги. Социальное взаимодействие помогает сосредоточивать эмоцию либо внутри, как MINE, либо снаружи, как OURS.
Исследования здоровья и благополучия показывают, что акцент на внутреннем, на чувствах, или на внешнем, на действиях, в долгосрочной перспективе может становиться вопросом жизни и смерти. В культурных контекстах, где господствует модель MINE, здоровье, как правило, лучше у людей, которые чувствуют радость84. Но так ли это в культурах, где господствует модель OURS? Группа ученых из США и Японии задала этот вопрос в масштабном исследовании репрезентативных выборок американцев и японцев среднего возраста (в среднем от 55 до 60 лет)85. Результаты этого исследования кратко описаны в его заголовке: “Радостное возбуждение или прием ванны”. Лучшим индикатором физического здоровья американцев оказались позитивные чувства, а для японцев лучшим индикатором стали позитивные действия. Об этих результатах стоит рассказать подробнее, поскольку они показывают еще одно различие между эмоциями, хорошо знакомое культурной психологии: в американском и восточноазиатском контекстах ценятся разные типы позитивных эмоций86. Радостное возбуждение в США важнее, чем в Восточной Азии, а спокойные эмоции в Восточной Азии важнее, чем в США. С учетом этого результаты исследования вполне логичны. В США наилучшим здоровьем отличались люди, которые испытывали больше позитивных чувств, особенно сопряженных с радостным возбуждением (например, воодушевление): они крепче спали, у них было меньше физических ограничений, а ключевые показатели здоровья, включая склонность к воспалениям и индекс массы тела, у них были лучше87. В Японии наилучшим здоровьем отличались люди, которые занимались позитивными делами, особенно спокойного характера (например, принимали ванну). Спокойные чувства в Японии оказывали на здоровье гораздо меньшее влияние, чем спокойные действия. Характерный для американцев акцент на внутреннем делал чувства мерилом всех благ, а характерный для японцев акцент на внешнем делал мерилом действия. Чувства в США и действия в Японии превратились в индикаторы здоровья. В зависимости от того, каким эмоциям уделялось больше внимания – MINE или OURS, – в культурах складывались разные траектории поддержания здоровья, способствующие долголетию88.
Сущностные или ситуативные: изнутри наружу или снаружи внутрь?
Держать чувства в себе опасно для здоровья. Эта идея настолько укоренена в обществе, что одному из моих друзей пришлось убеждать социального работника голландского агентства по усыновлению, что им с женой можно доверить ребенка, несмотря на то что у них не бывает ссор. Социальному работнику сложно было вообразить здоровый брак, в котором супруги не злятся друг на друга – а если же они все‐таки злятся, то каких усилий им стоит сдерживать свой гнев? (В конце концов они убедили агентство, что у них бывают мелкие разногласия, и после этого им позволили усыновить ребенка.) Если вам грустно, то вам, конечно же, положено плакать. Когда одна из моих подруг не могла унять слезы, обнаружив, что ей изменяет муж, ей советовали “просто выпустить все наружу, так станет лучше”. Наш язык полон напоминаний: “вскипев от гнева”, нужно “спустить пар”, иначе наши чувства окажутся “под замком”89.
Понятие “работа горя”, введенное в начале XX века Зигмундом Фрейдом, основано на подобной идее о том, что внутренние чувства должны выходить наружу и исчерпывать себя естественным путем90. “Работа горя” считалась неотъемлемой частью восстановления после травмы или утраты и состояла в выражении таких негативных чувств, как гнев и грусть. Оставаясь невыраженными, эти чувства мешали благополучию человека: они напоминали о себе в самый неподходящий момент и отягощали повседневную жизнь, периодически и вовсе парализуя ее. Работа Фрейда стала катализатором идеи о том, что подавление эмоций мешает их естественному проявлению и причиняет человеку вред.
Сформулированная Фрейдом мысль о необходимости естественного выражения эмоций получила некоторую поддержку в современных психологических исследованиях. Так, в исследовании 2004 года, в котором приняло участие около тысячи американцев, было обнаружено, что люди, подавляющие эмоции (и не дающие им выхода), корят себя за неискренность и реже чувствуют близость с окружающими, чем люди, выражающие эмоции открыто91. В силу этого социальные сети у “подавителей” становятся беднее. Ученые – психологи Оливер Джон и Джеймс Гросс – пришли к выводу, что внешние проявления у “подавителей” расходятся с чувствами, и поэтому у людей возникает ощущение неискренности. Стыдясь этой неискренности, люди отдаляются от своего социального круга, что негативно сказывается на близких отношениях.
Социолог Арли Хохшильд впервые привлекла внимание к подобной проблеме, возникающей у работников сферы услуг, в своей знаковой книге “Управляемое сердце”92. Хохшильд проанализировала противоположные концы континуума “эмоционального труда”. С одной стороны стояли бортпроводники, которые должны были проявлять радушие и заботиться о пассажирах. “Наши улыбки не нарисованы”, – заявляла одна авиакомпания, пытаясь продать не только улыбки бортпроводников, но и их истинные чувства. Другая компания отмечала: “Улыбки наших бортпроводников более человечны, чем набившая у вас оскомину фальшивая радость на лицах людей, которым платят за то, чтобы они улыбались”93. С другой стороны находились коллекторы, которые заставляли людей платить по счетам, прибегая к гневу. В коллекторских конторах “открытая агрессия была официальной тактикой выколачивания денег из должников”94.
В обеих сферах компании всячески культивировали эмоции, необходимые для работы. Поразительно, что в обеих отраслях внимание было направлено на чувства, а не просто на проявления эмоций. Бортпроводников учили “видеть в пассажире потенциального друга… и относиться к нему с таким же пониманием, как к хорошему другу”95. Коллекторов учили считать своих клиентов “паразитами” и “жуликами”. Компании полагали, что лучших результатов сотрудники добиваются, когда эмоции идут изнутри наружу. Впрочем, несмотря на усилия компаний, многие бортпроводники не могли “заставить себя считать салон самолета своей гостиной, полной пришедших к ним гостей, [поскольку] он гораздо больше напоминал салон, где сидело 300 требовательных незнакомцев”96. Некоторые коллекторы испытывали к должникам сочувствие, а не презрение. Выполняя требования работы на поверхностном уровне, они “чувствовали себя фальшивыми или неискренними” и рано или поздно становились жертвами выгорания97.
Все логично? Это потому, что в западных контекстах господствует модель эмоций MINE. Испытывать эмоции по требованию других или по воле обстоятельств в контекстах MINE неестественно. При этом в контекстах, где господствует модель OURS, это в порядке вещей. Возьмем, например, буддистское сообщество на севере Таиланда. В ходе полевого исследования в 2005 году антрополог Джулия Кассанити записала эмоции родственников 33‐летнего алкоголика Сена. После долгой болезни Сена наконец положили в больницу, где врачи обнаружили у него запущенный цирроз печени в неизлечимой стадии. Родственники Сена собрались у его постели, “расстроенные сложившейся ситуацией: большинство из них полагали, что в конце концов ему помогут и он снова станет здоров”. Несмотря на подавленное настроение, родственники Сена “подготавливали свои эмоции, чтобы принять случившееся… Отец и сестра Сена каждый день ходили в храм и делали подношения. По большей части его сестра, брат, родственники и друзья – по крайней мере вначале – имели непроницаемые лица: лица, на которых вообще не отражалось никаких эмоций”98. Кассанити заверяет нас, что непроницаемые лица друзей и близких Сена не свидетельствуют ни о безразличии, ни о том, что люди притворяются безразличными ради других. Она утверждает, что люди из окружения Сена специально входят в состояние, которое кажется им подобающим: им необходимо принять случившееся (там джай) и сохранять спокойствие (джай йен).
Принятие противоположно “работе горя”. Если работа горя предполагает выражение внутренних чувств, то принятие наступает, когда человек отстраняется от этих внутренних чувств. Джулия Кассанити отмечает, что друзьям и близким, которые не скрывали расстройства после госпитализации Сена (включая и саму Кассанити), мягко напоминали “не думать об этом” и “не говорить об этом”. В тайском буддистском сообществе считается, что, говоря и думая о негативных чувствах, человек усугубляет их, а этого необходимо любой ценой избегать. В подобных ситуациях важно принимать случившееся, сохранять спокойствие и отстраняться, а не давать своему горю выход.
Подход к горю в тайском буддистском сообществе напоминает о подходе инуитов утку к гневу: гнев в среде инуитов неприемлем, а ценится у них хладнокровие. Бриггс не могла приказывать своим чувствам – по крайней мере, так ей казалось. Ее внутренние чувства требовали выхода. Инуиты, у которых она жила, напротив, демонстрировали завидное хладнокровие, даже когда рушились их планы.
Подобным образом, когда мы с Маюми Карасавой проводили интервью с японскими респондентами, живущий в Токио японец Хирото, которому было немного за пятьдесят, рассказал нам, как работал в организационном комитете встречи выпускников. Он отвечал за приглашение людей на встречу. На заседании комитета одна из его членов сказала Хирото, что он плохо справляется с вверенной ему работой, которая заключалась в том, чтобы звонить выпускникам и лично приглашать каждого на мероприятие. Хирото почувствовал “обиду и раздражение”. Но когда в ходе интервью он рассказал об этом инциденте подробнее, стало ясно, что он никак не выразил свои чувства. Вместо этого он попытался понять, из чего исходила его коллега по организационному комитету:
Она из тех людей, что сделают все необходимое для организации [мероприятия]. Когда я звонил выпускникам, часто выяснялось, что она уже с ними связывалась… Она беспокоилась из‐за меня и, вероятно, считала меня ненадежным. Она очень сильная личность. Возможно, я не настолько силен: я переживаю, что позвоню человеку в неудобное время, поэтому мне очень сложно решить, когда звонить этим выпускникам… Должно быть, она решила, что лучше обзвонит всех сама, чем попросит об этом меня.
Хирото обнаружил, что не просто подвергся критике, но и что человек, который его критиковал, делал его работу за него. Хирото сообщил нам, что почувствовал раздражение, но сохранил гармонию в организационном комитете: гармония в отношениях высоко ценится в японских культурных контекстах. Возможно, он даже подавил свои изначальные чувства гнева и раздражения – об этом он нам не сказал. Но в любом случае он сделал то, чего требовала ситуация: как член организационного комитета он выполнил свое социальное обязательство ладить с коллегами и поддерживать гармонию.
В минуту гнева Хирото поступил так же, как и большинство наших японских респондентов: в интервью они рассказывали, что пытались понять точку зрения другого человека (например, коллеги по организационному комитету) и просто подстраивались под ситуацию. По собственным свидетельствам, они не делали ничего больше, даже если чувство было сильным. В ситуациях “гнева” японские респонденты гораздо чаще “не делали ничего”, чем выражали агрессию, проявляли упорство и даже уходили от конфликта. Хотя в интервью Хирото и не называл это принятием, его реакция напоминает реакцию родственников Сена из сообщества тайских буддистов и инуитов утку, у которых жила антрополог Джин Бриггс, поскольку все перечисленные в соответствующих ситуациях делали то, что нужно было делать, и их чувства по большей части подстраивались под заданный вектор. Их эмоции проявлялись снаружи внутрь.
Хорошей иллюстрацией эмоций, идущих снаружи внутрь, служит еще один пример из наших интервью. Двадцатилетняя японская студентка Тиеми, живущая с дедушкой и бабушкой, сказала нам, что старается всегда приходить домой к ужину. Но в последнее время у нее появилось новое хобби, из‐за которого пару дней в неделю она возвращается домой позже обычного. Всякий раз, когда она говорит бабушке и дедушке, что будет поздно, они жалуются, что Тиеми “никогда не приходит вовремя”. Это преувеличение раздражает Тиеми, но она пытается понять бабушку и дедушку: наверняка они беспокоятся за нее, они точно желают ей добра, они заботятся о ней. Когда интервьюер спросила у Тиеми, что она делает в таких случаях и что говорит бабушке и дедушке, она ответила, что никогда не дает им понять, что ее раздражают их ремарки:
Как я могу сказать… Мне хочется сказать: “Я хочу больше развлекаться, я хочу развлекаться до позднего вечера”. Но вместе с тем, понимаете, я ведь знаю, как сильно они беспокоятся обо мне. И поэтому я стараюсь ничего такого не говорить. Я просто перевожу это в шутку или отвечаю улыбкой.
Учитывая пожелания бабушки и дедушки, Тиеми начинает еще внимательнее следить за тем, чтобы как можно чаще приходить домой пораньше. Она играет свою роль.
Родственники Сена, инуиты утку, Хирото и Тиеми сосредоточены на внешнем и не делают акцента на внутреннем. Когда господствует модель эмоций OURS, эмоциональные проявления ситуативны: индивиды подстраиваются под социальные нормы, оправдывают ожидания и играют отведенные им роли в конкретном социальном контексте. Здесь важно, соответствуют ли ваши эмоции нуждам и ожиданиям окружающих, вписываетесь ли вы в нормы и справляетесь ли со своей ролью99. В масштабном международном анкетном исследовании психолог Дэвид Мацумото и его коллеги обнаружили, что сильнее всего эмоции подавляются в тех национальных культурах, где акцент стоит на социальном порядке, властной иерархии, нормах и традициях, а слабее всего – в тех национальных культурах, которые выводят на первое место индивида и его чувства100.
Значит ли это, что родственники Сена, инуиты утку, Хирото, Тиеми и все иностранные студенты в странах, где господствуют порядок и иерархия, испытывают отчуждение от собственных чувств? Когда родственники Сена не показывали эмоций, возникало ли у них ощущение неестественности? Когда утку сохраняли спокойствие при крушении своих планов, возникало ли у них ощущение отчужденности? Когда Хирото кивал на заседании организационного комитета, а Тиеми улыбалась бабушке и дедушке, возникало ли у них ощущение, что их чувства фальшивы? Досадно ли им не выражать свои эмоции? Не возвращаются ли их гнев или горе в другой, неподходящий момент?
Очевидно, нет. Во многих культурах люди считают, что их эмоции должны “согласоваться” с социальной средой, а не жить своей жизнью внутри них101. В ходе эмоциональных эпизодов представители этих культур сначала проявляют отсутствие эмоций и постепенно приходят к принятию, сначала ничего не делают и постепенно взращивают в себе эмпатию, сначала подстраиваются к обстоятельствам и учитывают нужды других и постепенно находят способы поддерживать гармонию в отношениях. Если бы в мультфильме “Головоломка” речь шла об эмоциях OURS, изменить пришлось бы даже его оригинальное название: вместо Inside Out (“Изнутри – наружу”) он назывался бы Outside In (“Снаружи – внутрь”). Если в западных культурах искренность – выражение внутренних чувств человека – считается добродетелью, то многие незападные культуры, включая Японию, видят в ней признак личной незрелости102.
Смотря на эмоции снаружи внутрь, можно объяснить и то, почему китайским работникам сферы услуг легче культивировать необходимые для работы эмоции, чем их американским коллегам103. В кросс-культурном исследовании китайские и американские работники сферы услуг сообщали, что “вживаются в роль, чтобы должным образом взаимодействовать с клиентами”: в этом случае позитивного подхода требовала сама природа сферы услуг. Американцам казалось, что, играя роль, они притворяются, будто у них хорошее настроение, но китайцы считали, что в этом нет никакого притворства104. Очевидно, для китайских работников сферы услуг подстройка эмоций под требования ситуации не выходила за рамки нормы. Эмоциональная настройка на нужды окружающих и требования ситуации предполагает фокус на эмоциях OURS, а вовсе не притворство.
Эту трактовку подтверждает и ряд других выводов. Во-первых, подобно Хирото и Тиеми, китайские работники сферы услуг, похоже, не просто подавляли свои чувства и управляли их проявлением, но и действительно чувствовали то, что требовалось для работы. Американские работники во многих случаях просто управляли проявлениями своих чувств, но китайцы, угождавшие своим клиентам, умудрялись по‐настоящему испытывать эмоции, которые проявляли105. Во-вторых, управление эмоциями на работе давалось китайцам гораздо проще, чем американцам. Американские работники сферы услуг, большинство из которых просто контролировали свои эмоциональные проявления, страдали от выгорания: они чувствовали отчуждение и изнеможение и плохо справлялись с поддержанием межличностных отношений106. Американцам, которые пытались изменить свои чувства, было очевидно легче, но и они не демонстрировали эффективности в межличностных коммуникациях. Совершенно другая картина наблюдалась в среде китайских работников: управление проявлениями своих чувств (“поверхностная игра”) требовало приложения некоторых усилий, но работники, которые надевали маску, чтобы подобающим образом общаться с клиентами, были не менее эффективны в межличностных коммуникациях, чем работники, которые не вживались в роль. Кроме того, глубокая игра шла китайским работникам на пользу: она заряжала их энергией и повышала их эффективность в межличностных взаимодействиях. Эмоции, идущие снаружи внутрь, дорого обходятся в контекстах, где господствует модель MINE, но при этом не всегда считаются некорректными или неестественными в контекстах, где господствует модель OURS: напротив, они приносят пользу в культурных контекстах, где эмоции рассматриваются как нечто подлежащее социальному согласованию.
Bepul matn qismi tugad.