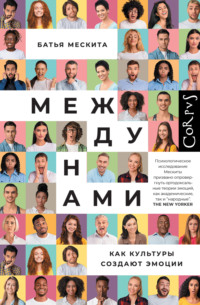Kitobni o'qish: «Между нами. Как культуры создают эмоции», sahifa 3
Рабочее определение эмоций
Я написала эту книгу, чтобы показать, какую пользу может принести внимательный анализ культурных различий в эмоциях. Эмоции – неотъемлемая часть нашей социальной и культурной жизни, и они формируются под влиянием наших культур и сообществ. Различия в эмоциях не ограничиваются лишь поверхностными различиями в их проявлении – эмоции не просто выглядят по‐разному: различия между ними проникают в сами процессы, лежащие в их основе, и даже в их протекание.
Постойте‐ка. Возможно ли, что у людей из разных культур эмоции разные? Разве человеческое тело не обусловливает наши эмоции? И да, и нет. Наш мозг и организм не “прошиты” под конкретные эмоции37, но подготавливают каждого из нас к тому, чтобы испытывать эмоции, наиболее полезные в нашей социальной и материальной жизни, – эмоции, приспособленные для наших сообществ и культур38. В современной науке природа уже не противопоставляется воспитанию: она подстраивается воспитанием. Наш мозг динамически “прошивается” в ходе нашей жизни в конкретных социальных и культурных контекстах, и эта пластичность мозга позволяет нам жить в конкретных сообществах. Мы по природе своей социальны – мы осмысливаем мир и взаимодействуем с другими в социальной среде. Эмоции усваиваются через обучение и опыт39. Разный опыт приводит к формированию разных эмоций, поэтому дать строгое определение эмоций, охватывающее все их вариации, пока невозможно. И все же в общих чертах оно понятно.
Эмоции предполагают перебои, происходящие в обычной жизни: они сопряжены с событиями, которые угрожают ожиданиям, планам и целям человека или ставят их под удар. Хашам у египетских бедуинов – осознание угрозы их достоинству, например при встрече женщины с мужчиной. Хашам также подталкивает человека сделать что‐нибудь, чтобы вернуть утраченное достоинство, – допустим, спрятаться или опустить взгляд. Кроме того, дела у людей могут идти и исключительно хорошо – в полном соответствии с их ожиданиями, планами и целями. Например, так происходит, когда я оказываюсь в полной гармонии с окружающими. Гезеллиг – это вечер с друзьями, когда все настроены на один лад; в такой ситуации мне хочется и дальше общаться с близкими людьми, не покидая своего места. Эмоции, которые мы называем приятными, обычно связаны с новым, экстраординарным, вожделенным, почти идеальным40. Эмоции возникают в ответ на важные и значимые в личном отношении события, которые выходят за рамки обыденности, и состоят из осмысления ситуации, а также переориентации, подготовки к действию или перенастройки в соответствии с этими экстраординарными событиями.
Где в этом определении тело? Все психические процессы сопровождаются телесными изменениями. Более того, эмоциональные события по определению требуют адаптации, переориентации, подготовки к действию и перенастройки в соответствии с незаурядными и важными событиями, и они задействуют множество телесных процессов, порой весьма активно41. Когда я готовлюсь дать отпор или вступить в драку, как иногда в моменты гнева, мои мышцы напрягаются, а челюсти сжимаются. Эти телесные изменения могут и сами становиться частью нашего сознательного опыта в эмоциональной ситуации42. Иногда их участие в эмоциональном опыте зависит от культуры человека. Например, когда кто‐то вклинивается передо мной в очередь, мои мышцы напрягаются, и это может быть как проявлением того, каким образом я испытываю гнев, так и свидетельством того, что сознательный опыт в этом случае выдвигает на передний план социальные последствия события. Я могу решить, что меня притесняют, и не захочу давать себя в обиду – в таком случае на первом плане у меня, возможно, окажутся вовсе не телесные изменения (подробнее об этом в главе 2). Этот пример показывает, что определение эмоций как осмысления, переориентации, подготовки к действию и перенастройки не оставляет тело за скобками, а подразумевает его участие. И все же телесные изменения не всегда играют главную роль в эмоциях, которые возникают в ходе наших повседневных взаимодействий.
Важно отметить, что эмоции всегда наделяются смыслом в наших отношениях с другими людьми43. Когда я чувствую (или практикую!) хашам как бедуинка, я ожидаю благосклонной реакции. Я предвижу, что верну себе свои достоинство и честь, поскольку хашам показывает, что я принимаю стандартный для бедуинов способ интерпретации ситуации и реакции на потенциальную потерю достоинства. Когда я чувствую (или практикую) гезеллиг в своей голландской среде, я полагаю, что возникающее чувство должно быть общим и взаимным. Более того, если это не так, ситуация может резко перестать соответствовать характеристикам гезеллиг. Когда я люблю кого‐то, по крайней мере в американском контексте, я хочу проводить с этим человеком свое время и обретать совместный опыт, говорить “я тебя люблю”, обнимать и прижимать его к себе. Если же любовь не взаимна, этот опыт становится совершенно иным. Во всех случаях эмоции сопряжены с социально (а не только лично) значимыми и важными событиями и предполагают взаимную сонастройку участвующих в этих событиях людей.
Любое сообщество, которое предоставляет людям набор накопленных знаний, представлений о мире, практик в сфере межличностных отношений, моральных установок, а также ценностей и целей, может оказывать влияние на наши личные эмоции. Разные когорты, разные социально-экономические группы, разные религии, разные гендерные культуры и даже разные семейные культуры могут наделять эмоции собственным смыслом. Я подчеркнула, как на мои эмоции повлияло воспитание в голландской среде, и сравнила его с моим опытом в нескольких североамериканских контекстах. Несомненно, мое эмоциональное становление происходило под воздействием множества других факторов. Я могла бы выбрать иную перспективу – как женщины, как выходца из среднего класса, как представительницы поколения беби-бумеров, как дочери (нерелигиозных) евреев, выживших в холокосте, как матери, как жены, как друга и как профессора. Что бы я ни выбрала – все перечисленное оказывало влияние на смысл и контекст действия.
Одинаковы ли эмоции на глубинном уровне?
Что же насчет идеи о том, что, хорошо узнав человека из другой культуры и преодолев поверхностные различия, можно увидеть в нем знакомые чувства и постичь его эмоции? Правда ли чувства у всех одинаковые? Нет. И при взаимодействии мы вовсе не всегда обнаруживаем друг в друге сходства. Когда люди приходят к заключению, что у других людей такие же чувства, как у них, этот вывод порой проистекает из создаваемых ими проекций. Ученые проецируют субъективные идеи не меньше обычных людей. Многие психологические и антропологические объяснения культурных различий в эмоциях сводятся к утверждению, что люди из других культур ошибочно классифицируют или ошибочно приписывают свои чувства либо вовсе скрывают их; при этом предполагается, что их “настоящие” чувства больше похожи на наши. Как станет очевидно из последующих глав, сама озабоченность реальными, глубокими, настоящими чувствами индивида, возможно, характерна исключительно для культур WEIRD.
Когда мы взаимодействуем с другими людьми, нам следует ожидать, что в них найдутся не только сходства с нами, но и отличия от нас. Нам также следует ожидать, что порой нам придется объяснять собственные эмоции, поскольку их нельзя считать ни естественными, ни универсальными. Когда несколько лет назад я впервые представила эту идею группе ученых, некоторых это встревожило. Как надеяться на взаимопонимание, когда у нас не совпадают даже эмоции? Их реакция привлекла мое внимание к идеализму, который часто скрывается за предположением об универсальности эмоций. Проецировать наши эмоции на эмоции представителей других культур нас подталкивает не только эмоциональный империализм. В глобализированном мире не меньшую роль играет и желание использовать эмоции для формирования общего представления о человечности.
Но отчаиваться не стоит: человечность можно найти даже в отсутствие универсальных чувств. Эмоции людей, принадлежащих к другим культурам, можно изучить. Культурные различия в эмоциях подчиняются логике: они становятся понятны, когда мы узнаем, что важно для людей в соответствующих контекстах, то есть когда мы выясняем, каковы их нормы, ценности и цели. Но главное, что, поняв эмоции людей из других культурных групп, вы увидите, что ваши собственные эмоции не универсальны по умолчанию. Эмоции – в том числе и наши – определяются нашей культурой в той же степени, что и наш стиль одежды, наш язык и пища, которой мы кормим своих детей.
Мозаика эмоциональной жизни слишком сложна, чтобы создать полноценное руководство, и поэтому я не ставлю перед собой такую задачу в этой книге. Я хочу лишь показать, что культурные различия в эмоциях подчиняются определенной логике. Мы можем научиться ожидать различий в эмоциях и относиться к ним непредвзято. Принимая существование эмоциональных различий, мы прокладываем дорогу к тому, чтобы наводить мосты между культурами и находить общий язык с другими людьми.
Глава 2
Эмоции: MINE или OURS?
В мультфильме “Головоломка” (2015) студии Pixar в голове у маленькой девочки Райли Андерсон живут пять эмоций – Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость, – которые состязаются друг с другом за право руководить ее действиями. Это прекрасный мультфильм, который дает нам несколько мудрых уроков. Здесь я хочу обсудить, как в нем изображены сами эмоции44. В голове каждого человека прячутся такие же эмоции, которые ждут возможности проявить себя типичным для себя образом. Каждая эмоция представлена маленькой фигуркой, соответствующей ее образу и имеющей набор фиксированных характеристик45. Например, гнев – красный. Вне зависимости от ситуации, в которой он возникает, и вне зависимости от человека, который его испытывает, гнев всегда “одинаков”. Всякий раз, когда Райли спорит с родителями, внутри каждого из них активируется красная фигурка гнева. Гнев – это платоновская сущность, которая реализуется одинаковым образом у разных индивидов в разных ситуациях.
“Головоломка” показывает эмоции в том виде, в котором они испытываются и понимаются во многих западных культурных контекстах: это эмоции MINE46 – психические, внутренние для человека и сущностные (последнее значит, что их характеристики неизменны). После того как мы всей семьей посмотрели мультфильм, я указала на это своим детям-подросткам. Я предположила, что если бы режиссером был человек из незападной среды или если бы Райли была не белой девочкой из американской семьи среднего класса, то эмоции, возможно, выглядели бы совершенно иначе. Меня обвинили в занудстве. “Вот и ходи после этого в кино с психологом”, – сказали мне дети.

Рис. 2.1. Модели эмоций MINE и OURS
В этой главе, узнав о замечательном мультфильме “Головоломка”, мы отправимся в интеллектуальное путешествие, чтобы открыть другой тип восприятия и испытания эмоций: модель OURS47, которая считает эмоции социальными, внешними для человека и ситуативными (последнее значит, что эмоции принимают разные формы в зависимости от ситуации, в которой они возникают). Модель OURS господствует почти во всех культурах, которые не относятся к группе WEIRD. Сегодня такой подход к эмоциям характерен для культур, не входящих в WEIRD, но в прошлом он был распространен повсеместно. Воспринимая эмоции в соответствии с моделью OURS, мы смотрим наружу, а не внутрь. Это не просто способ говорить об эмоциях, это способ их испытывать.
Внутри или снаружи человека?
Я впервые столкнулась с эмоциями OURS в сообществах, не входящих в группу WEIRD, когда продолжила описанное в первой главе нидерландское исследование, в котором участвовали представители суринамского и турецкого национальных меньшинств и голландского большинства. С новыми респондентами из трех указанных культурных групп мы побеседовали о нескольких эмоциональных событиях: о моментах, когда они получали комплименты или становились объектами восхищения, когда какое‐то достижение приносило им успех, когда их обижали или с ними обходились неуважительно и когда они несправедливо или неподобающе обращались с кем‐то или испытывали такое обращение на себе. В более ранних исследованиях ситуации такого типа были признаны эмоционально значимыми во всех трех культурных группах, и мы хотели проанализировать и сравнить связанные с ними эмоциональные эпизоды48.
Меня особенно поразило, что эмоции возникали между людьми. Молодой турок Левент вспомнил, как получал комплименты и был объектом восхищения, когда получил высший балл на государственном вступительном экзамене и поступил в лучший университет Турции. Связанную с этим гордость в полной мере разделяли его родители.
[Моя победа над конкурентами] была важна для моей матери. Мать гордилась, что может использовать мой успех, чтобы утереть нос множеству людей. Ее просили показать мой студенческий билет, и она показывала его без моего ведома. Мои родители пригласили в гости всех родственников и соседей, чтобы отпраздновать этот успех.
Этот эмоциональный опыт занимает место между людьми, поскольку привязывает Левента к его родителям, наделяет их респектабельностью и достоинством и вместе с тем ставит под вопрос достоинство их далеких родственников. Эмоции Левента “живут” в социальном мире:
Мои [далекие] родственники не хотели, чтобы я сдавал экзамен… ведь из‐за этого шансы их детей поступить в хорошие университеты становились ниже. [Но я сдал его] и тем самым вызвал недовольство, что стало ударом по моему достоинству… Мне пришлось соревноваться с детьми моих же родственников… Родственники задавали мне вопросы, чтобы меня унизить: “На этот раз ты дойдешь до конца?” Они целовали меня и желали мне успехов, но я знал, что у них одна мысль: “Вот черт, ты снова победил…” После того как я обошел [конкурентов], многие семьи готовы были предложить мне в жены своих дочерей. Конечно, моя самооценка стала выше.
Главная сила эмоционального опыта Левента явно связана с социальным миром – с изменением отношений между людьми, а не с субъективным внутренним чувством. Аналогичная картина возникала во многих турецких и суринамских интервью: эмоции описывались как изменения относительного статуса, достоинства и влияния либо как пересмотр статуса, достоинства и влияния49. Они были – по крайней мере, в первую очередь – не личными чувствами индивида, а способами взаимодействия людей.
Совсем другую картину рисует рассказ Мартина о том, как он получал комплименты, будучи объектом восхищения. Мартин – молодой человек из голландского национального большинства, который защитил магистерскую работу по гражданскому строительству. В тот момент у него и возникла эмоция, о которой он решил рассказать:
Чувство было такое, что ты действительно сделал это. Да, [ты гадаешь], как вообще с этим справился… Я испытал огромное облегчение… Не столько обрадовался, сколько подумал: “Наконец‐то это позади!” <…> Я сам установил себе этот дедлайн и обрадовался, что уложился в срок… После этого я пошел отпраздновать с друзьями и родственниками, нас было семеро. Мы вообще не говорили о моей защите. Да, конечно, они мои друзья, поэтому они знают, что это для меня важно… Разумеется, они пришли послушать мой доклад и сказали, что я молодец. Еще они сказали: “Теперь всё, ты с этим разделался”, – и тому подобные вещи… Не считая этого, мы просто говорили о другом… Несколько месяцев, встречаясь с людьми, я сообщал им, [что защитился]. Мне было от этого приятно. Каждый раз словно заново осознаешь, что дело сделано.
Эмоция Мартина находится главным образом внутри: его опыт определяют чувства облегчения и радости (как ее ни назови). Разумеется, он делится своим достижением с другими и отмечает его. Но акцент в эмоции стоит на его внутренних чувствах.
Критически настроенный читатель может возразить, что Левент и Мартин не столько имеют разные эмоции, сколько по‐разному о них говорят. Разве не может быть, что Левент испытывает такие же чувства, как Мартин (например, огромное облегчение, радость), но просто выражает их иначе? Может, Левент говорит о своей семье, потому что туркам полагается именно так говорить о своих эмоциях? Насколько отличается от участия социальной среды Левента роль друзей Мартина и людей, с которыми он встречался в недели и месяцы после своего достижения? Как вы помните из первой главы, в конце 1980‐х годов я тоже могла бы войти в число таких критиков, поскольку оставляла на полях статей своих коллег пометки: “Это разговоры об эмоциях, а не сами эмоции”.
Многие эмоциональные события действительно имеют как черты MINE, так и черты OURS50. Интервью Левента и Мартина показывают, что эмоциональные события часто включают в себя и психический, и социальный компоненты, а следовательно, происходят и внутри, и вне человека. И все же существует заметное культурное различие в локализации эмоций либо внутри – в чувствах, внутренних ощущениях и телесных проявлениях, – либо снаружи – в действиях, ситуации, отношениях с другими людьми.
Если для вашей культуры характерна модель эмоций MINE, это значит, что эмоцией считаются внутренние чувства и телесные ощущения, которые играют в событии главную роль, замечаются и запоминаются. Если же для вашей культуры характерна модель OURS, эмоциями могут считаться социальные действия и ситуативные нормы и требования, которые замечаются, запоминаются и становятся основаниями для действий. В культурной модели MINE эмоции испытываются совершенно иначе, чем в культурной модели OURS51. Любой, кто применяет модель MINE, поймет, что гордость Левента отличается от той, к которой он привык. Почему же у нас рождается предположение, что Левент просто говорит об эмоциях определенным образом в силу устоявшейся социальной традиции? Можем ли мы с той же легкостью представить, что Мартин на самом деле испытывает такие же эмоции, как Левент, но описывает их иначе в силу культурной традиции, характерной для голландского национального большинства? Вероятно, нет.
Вот другой пример эмоций OURS от одного из моих голландских респондентов суринамского происхождения, художника Ромео. Ромео рассказал, как один из близких для него людей, тоже художник, обошелся с ним нетактично. Суть истории в том, что второй художник попытался обрести положение и ресурсы, ограничив в них Ромео. Собственные чувства Ромео назвал “плохими, очень неприятными”, но, в сущности, этот эмоциональный эпизод произошел между людьми – как борьба за положение и доступ к ресурсам:
Один парень приезжает из американского университета. Приезжает в Нидерланды… Этот парень слышал обо мне… прежде чем прийти ко мне, он обращается к моему другу. Он видел книгу, каталог моих работ, и она ему очень понравилась. [Он говорит: ] “Я хочу его, хочу с ним встретиться”. И мой друг знает мой номер телефона, но так его и не дает. Только после того, как этот парень возвращается в США, купив кое‐какие работы моего друга, чтобы увезти с собой в университет, мой друг говорит мне: “Я дал этому парню твой телефон, только ты ему не ответил. Ни разу не ответил”. Но тот парень не смог со мной связаться, потому что мой друг не дал ему мой номер.
Этот друг, который, по мнению Ромео, позавидовал тому, что творчество Ромео получило признание, укрепил свое положение, одновременно подорвав положение Ромео. Он умышленно попытался получить внимание, признание и возможности за счет Ромео.
История Ромео не уникальна. Суринамские респонденты моих исследований часто рассказывали о том, как завистливые друзья и родственники подрывали их положение и лишали их различных возможностей52. Их сообщения перекликаются с исследованиями Гленна Адамса о вражде в Гане, и стоит отметить, что суринамцы, с которыми я беседовала, тоже происходят из Западной Африки. Описывая Гану, Адамс отмечает, что на автобусах, автомобилях и рекламных щитах там часто размещают знаки с предостережениями “о врагах в ближайшем окружении”53. В известном стихотворении говорится: “Ваши ближайшие друзья могут оказаться предателями… они могут привести вас к краху… Нет на свете человека без врага”54. Эта вражда возникает из‐за зависти благополучию ближнего, из‐за ненависти, несогласия и простой злобы – и все перечисленное следует рассматривать с учетом местных реалий, где люди живут в тесноте и неизбежно зависят друг от друга. В таких обстоятельствах человеку может быть выгодно дискредитировать другого, ведь так он может получить либо ресурсы, либо репутацию, которыми в ином случае владел бы этот другой. Это игра с нулевой суммой.
В итоге подозрения Ромео подтвердились: его коллега не сообщил коллекционеру, как с ним связаться. Вызвал ли Ромео его на разговор? Выразил ли свой гнев или обиду? Сделал ли еще что‐нибудь? Нет. Ромео говорит, что давно потерял доверие к “своему другу”, но при этом так и не сообщил ему о своем недовольстве, поскольку баланс сил в их отношениях впоследствии восстановился. Ромео одержал верх над вторым художником, когда именно он (а не его друг) вступил в тесный контакт с коллекционером. Поскольку теперь Ромео стоит выше своего друга, ему не нужно ничего делать. Его действия – или, в данном случае, бездействие – определяются состоянием их отношений.
Вероятно, настала пора упомянуть о том, что антропологи называют азами стереотипизации. Когда я говорю о суринамских респондентах западноафриканского происхождения или о ганцах, я не имею в виду, что абсолютно все выходцы из Западной Африки похожи друг на друга, и не рассматриваю их культуру как гомогенную, неизменную и неизменяемую сущность. Моя подруга, антрополог Кейт Залум, отметила, что психологи вроде меня рассуждают о культурах в эссенциалистском ключе. Но я не пытаюсь показать, “какие суринамцы, турки и ганцы на самом деле”, как если бы их культуры были гомогенны и неизменны, а объясняю, что в культурной вселенной существует широкий спектр различных эмоциональных опытов. Именно контраст с “другими культурами” – какими бы упрощенными они ни представали – сообщил мне о существовании модели OURS55. Этот контраст позволяет мне правдиво отражать эмоции MINE и говорит, что модель MINE в культурах WEIRD – лишь один из культурных вариантов. (Я вернусь к вопросу о культурном эссенциализме в последующих главах.)
Модель OURS логически вытекает из восприятия эмоции у себя и других людей. В одном классическом исследовании было показано, что представители народа минангкабау, живущего на западе Суматры в Индонезии, считают эмоциональный опыт внешним по отношению к человеку, а точнее, происходящим “между людьми”56. В 1986 году известный антрополог Карл Хайдер привез своих коллег-психологов Пола Экмана и Боба Левенсона в отдаленное место, где проводил полевое исследование. Левенсон и Экман намеревались проверить свою теорию о том, что несколько базовых эмоций заложены в человека изначально и появились в процессе эволюции путем естественного отбора (как описывалось в первой главе). В их число входили радость, грусть, отвращение, страх и гнев. По гипотезе ученых, каждая из базовых эмоций характеризовалась особыми сценариями работы мозга, уникальным субъективным чувством, специфической активностью вегетативной нервной системы (например, частотой сердцебиения, электропроводностью кожи, частотой дыхания), а также уникальным выражением лица. Считалось, что эмоциональные модальности тесно связаны друг с другом – предполагалось, что их связь настолько тесна, что если активировать одну из них, скажем выражение лица, то автоматически проявятся и другие57. Левенсон и его коллеги решили, что лучше всего проверить эту теорию, попытавшись воспроизвести более раннее исследование в культурном пространстве, которое разительно отличается от западного контекста: минангкабау матрилинейны, исповедуют ислам и занимаются сельским хозяйством58.
Не упоминая слов для описания эмоций, исследователи объяснили респондентам, как сформировать на лицах выражения, увидев которые западный человек распознал бы гнев, отвращение (или любую другую “базовую” эмоцию). Для отвращения инструкции были такими: “а) наморщите нос и раздуйте ноздри, б) опустите нижнюю губу, в) выдвиньте язык вперед, не высовывая его”59. Левенсон и его коллеги хотели узнать, испытывает ли человек, который выглядит так, словно что‐то ему отвратительно, связанное с раздражением возбуждение вегетативной нервной системы и чувствует ли он отвращение60. В США оба вопроса получили положительный ответ: когда профессиональные актеры и студенты бакалавриата выглядели так, словно испытывают отвращение, они действительно испытывали отвращение, и их нервная система возбуждалась характерным образом, не похожим на сценарии, связанные с другими выражениями лица.
Подтвердилась ли гипотеза ученых? Нет. Даже если оставить за скобками низкое качество лицевых конфигураций и физиологических данных, полученных при исследовании минангкабау, мужчины из этой группы не сообщили о появлении каких‐либо эмоций, когда их спросили, “возникли ли [у них] какие‐либо эмоции, воспоминания или физические ощущения при изменении выражения лица”. Команда Левенсона признала, что важная причина этого, возможно, заключалась в том, что “в задаче не был задействован принципиальный элемент эмоционального опыта в представлении культуры [минангкабау], а именно – значимое участие другого человека”. В свою очередь, Хайдер в ходе своего исследования заметил, что “в сравнении с американцами, для которых очень важен внутренний опыт эмоции, минангкабау чаще подчеркивают ее внешние аспекты, делая акцент на последствиях эмоции для межличностных взаимодействий и отношений”61. Минангкабау ставили акцент на эмоциях OURS – эмоциях как взаимодействиях людей. Поаспектная проверка, которая прекрасно сработала в американской среде, не привела к возникновению эмоций у минангкабау62. Возможно, физиологические и телесные сигналы все же играют некоторую роль в эмоциональном опыте минангкабау, но только в случае их социальной констектуализации или совместного переживания63.
Вероятно, японские эмоции тоже разделяются с людьми. Когда профессор психологии Киотского университета Юкико Утида посмотрела японские и американские репортажи с Олимпийских игр 2004 года в Афинах, ее поразило, насколько по‐разному японские и американские атлеты говорят о своих эмоциях. Когда об эмоциях говорили американцы, они помещали эмоции внутрь себя, но когда о них говорили японцы, они часто помещали их в отношения с другими. Один интервьюер спросил у футболистки, которая вернулась с Олимпиады после проигрыша своей сборной:
Вы вернулись в Японию. Какую реакцию вы наблюдали?
И она ответила:
Мы вернулись без медалей. Но когда мы приземлились в аэропорту Нарита, многие сказали нам, что мы “молодцы”! Я была очень благодарна за такую поддержку, но вместе с тем мне было очень грустно, что мы проиграли… Мне хотелось бы оправдать их ожидания.
Утида решила изучить этот феномен систематически64. Она начала с анализа тех самых интервью, которые пробудили ее интерес, и посчитала, как часто и когда именно японцы и американцы упоминали в них эмоции. Эти интервью брали у атлетов в прямом эфире прямо после соревнований, поэтому обстоятельства, в которых пребывали японские и американские спортсмены, были сравнимы. Когда интервьюеры прямо спрашивали у атлетов, что они чувствуют, японские и американские атлеты называли одинаковое количество эмоций. Но когда интервьюер спрашивал о других людях (родственниках, тренерах, друзьях) – что японские репортеры делали чаще американских, – об эмоциях говорили только японские спортсмены. Например, на вопрос “Как вас поддерживали близкие?” японский атлет ответил: “Мои близкие всегда меня поддерживали, они часто звонили мне. Я очень рад оправдать ожидания своих родственников”. Американский спортсмен ответил иначе: “Моя семья всегда меня поддерживала. Меня всегда подбадривала мама”. Хотя спортсмены из обеих культур были способны рассуждать о своих эмоциях, японцы гораздо чаще говорили о них в контексте отношений. Может, это свидетельствовало лишь о разнице в традициях? Может, японцы просто с детства учатся говорить об эмоциях, когда их спрашивают об отношениях с другими людьми?
В другом исследовании Утида и ее коллеги показывали японским и американским студентам фотографии спортсменов-победителей – либо японцев, либо американцев. На снимках атлеты были одни или в компании трех товарищей по команде.
В каком случае спортсмен, по мнению студентов, испытывал больше эмоций? Японские студенты видели “больше эмоций” на групповых снимках, но для американских студентов все было наоборот. Японцы воспринимали эмоции в соответствии с моделью OURS, а американцы – в соответствии с моделью MINE65.
Стоит признать, что диапазон эмоций у спортсменов-победителей невелик (они вряд ли будут грустить!), но в другом исследовании мы обнаружили, что студенты из Японии видят и другие эмоции как OURS, а студенты из США – как MINE. В начале 2000‐х годов Фиби Эллсуорт, которая входила в число моих наставников в Мичиганском университете, попросила меня составить список культурных тем, которые, на мой взгляд, полезно изучить специалистам по психологии эмоций. Меня заинтересовало наблюдение, что японцы воспринимают эмоции как нечто происходящее между людьми, а не внутри человека. В то время в аспирантуре у Эллсуорт учился изобретательный Така Масуда, который теперь преподает в Университете Альберты. Масуда был выходцем из Японии, и моя идея пришлась ему по душе. Мы стали работать вместе.


Рис. 2.2. Японские и американские спортсмены (Copyright © 2008, Американская психологическая ассоциация)
Масуда разработал и нарисовал задачу, основанную на классической парадигме задач на эмоциональное восприятие, о которой я упоминала в первой главе. В раздаточном материале было несколько картинок: на одних был изображен мальчик-европеоид, которого мы назвали Джон, а на других – мальчик-азиат, которого мы назвали Таро. На каждой из картинок Джон и Таро испытывали одну из трех эмоций: радость, гнев или грусть. Рядом с Джоном / Таро стояли другие люди, которые также испытывали некоторую эмоцию. На части картинок их эмоция совпадала с эмоцией Джона / Таро, но во многих случаях отличалась от нее. Мы просили участников нашего исследования, студентов из США и Японии, сказать, что чувствует главный герой (Джон или Таро).

Рис. 2.3. Радостные Джон и Таро в окружении разгневанных людей
В отличие от более раннего исследования с фотографиями атлетов, в нашем исследовании анализировалось, какие эмоции воспринимают участники, а не только как много эмоций они видят66. Когда мы задавали вопрос о том, что чувствуют Джон и Таро, американские студенты оценивали только выражения лиц самих Джона и Таро. Если Джон / Таро выглядел радостным, они отвечали, что он рад. Если Джон / Таро выглядел разгневанным, они отвечали, что он разгневан, и так далее. Американские студенты воспринимали эмоции MINE: их оценка основывалась на выражении лица главного героя. Японские студенты, напротив, видели эмоции OURS. Они учитывали выражение лица главного героя, но, в отличие от американцев, также смотрели на выражения лиц остальных изображенных на картинке: японские респонденты считали, что Таро / Джон радостнее всего, когда остальные люди тоже выглядели радостными67. Они считали, что Таро / Джон менее радостен, когда остальные люди выглядели разгневанными, – более того, в таком случае они считали, что Таро / Джон сильнее разгневан. Японцы воспринимали эмоцию по всем изображенным на картинке людям: эмоция была не внутри одного человека – Таро / Джона, – но также в людях, окружающих его. Аппарат для отслеживания взгляда, который наблюдал, как двигались глаза участников исследования, когда они оценивали, что чувствует Джон / Таро, показал, что японцы переводят взгляд с Джона / Таро на окружающих его людей, но американцы не сводят глаз с главного героя.