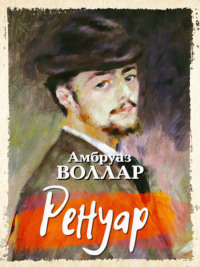Kitobni o'qish: «Ренуар»
I. Как я познакомился с Ренуаром (1894)
Мне очень хотелось узнать, кто позировал для приобретенной мною картины Мане. Изображен был мужчина, остановившийся в аллее Булонского леса: серая шляпа, лиловый жакет, желтый жилет, белые панталоны и лаковые ботинки. Я забыл еще розу в бутоньерке.
Мне говорили: «Ренуар должен знать, кто это».
Я отправился к Ренуару, который жил на Монмартре1, в старинном доме, прозванном «Замок туманов». Мне открыла горничная, очень похожая на цыганку; не успела она попросить меня подождать, указав на переднюю, как вышла молодая дама, вся – добродушие и округлость тех буржуа эпохи Людовика XV, которые глядят с пастелей Перроно: это была мадам Ренуар.
– Как, вас не пригласили войти! Габриэль!..
– Но там на дворе грязь! – оправдывалась служанка, удивленная упреком хозяйки, – и потом «булочница»2 забыла положить циновку у двери!
Мадам Ренуар отправилась сообщить обо мне мужу, оставив меня в столовой восхищаться лучшими из полотен Ренуара, какие мне когда-либо приходилось видеть.
Вскоре появился художник. Я видел его в первый раз: худощавый человек с пронизывающим взглядом, до того нервный, что, казалось, ему невыносимо трудно оставаться на месте.
Я объяснил, что привело меня к нему.
– Это друг Мане – мосье Брен, – сказал Ренуар. – Но нам удобнее будет разговаривать там, наверху! Хотите подняться в мастерскую?
Ренуар ввел меня в самую обыкновенную комнату. Два-три разрозненных стула, ворох материй, несколько соломенных шляп, которые художник имел обыкновение мять в руках, устраивая позировать свою модель. Повсюду холсты, прислоненные друг к другу. Около стула для модели я заметил кипу номеров «Revue Blanche» с еще нераскрытыми бандеролями, – этого журнала «молодежи», очень хорошо принятого публикой и в котором, помнится, мне часто приходилось читать похвалы искусству импрессионистов.
– Вот очень интересное издание! – говорю я.
Ренуар. – Да, разумеется! Это прислал мне мой друг Натансон. Но, признаюсь, я никогда не раскрывал этих журналов.
И так как я протянул руку, Ренуар торопливо остановил меня: – Не разрушьте, это – опора для ноги моей модели.
Усевшись перед мольбертом, Ренуар открыл свой ящик с красками, и я был восхищен порядком и чистотой внутри. Палитра, кисти, тубы, распластанные и свертываемые по мере того как расходовались краски, – все это производило впечатление совершенно женской опрятности.
Я выразил Ренуару мое восхищение по поводу двух картин, которые я видел в столовой.
– Это этюды, сделанные с моих горничных. Некоторые из них были замечательно сложены и позировали, как ангелы. Но надо сказать, что я не требователен. Меня отлично устраивает первая попавшаяся замарашка, лишь бы только у нее не оказалась блестящей кожа. Я просто не понимаю, как другие доходят до того, что пишут эти подпорченные телеса. Они это называют «дамы общества»!.. Видали вы когда-нибудь дам общества с руками, которые хотелось бы писать? А как приятно писать женские руки, но руки, занятые домашней работой! В Риме, в Фарнезине, есть Рафаэль – Венера, соблазняющая Юпитера; у нее руки… одно очарование! Чувствуется здоровая, толстая тетка, которая сейчас вернется к себе в кухню: это-то и заставило Стендаля сказать, что женщины Рафаэля тяжеловесны и пошлы.
Мой визит был прерван приходом модели. Уходя я просил у художника разрешения зайти в другой раз.
– Всегда, когда захотите! Но приходите лучше всего с наступлением сумерек, когда я кончаю мой день.
И в самом деле, жизнь Ренуара была размерена, как день рабочего человека. Он шел в мастерскую с точностью служащего, идущего в свое бюро. Я должен прибавить, что и спать он ложился рано, после партии в шашки или домино с мадам Ренуар; он опасался поздним сном повредить завтрашнему сеансу. Всю жизнь живопись была его единственным удовольствием, единственным отдохновением.
Я вспоминаю встречу в 1911 году с мадам Ренуар, торопливо выходившей из больницы, где в тот день Ренуару должны были сделать операцию.
– Как Ренуар?
– Операция отложена на завтра… Простите меня… я очень спешу, – муж послал меня за ящиком с красками. Он хочет писать цветы, которые ему принесли сегодня утром.
Ренуар целый день был поглощен этими цветами, он занят был ими еще на следующий день, пока не пришли, чтобы перенести его на операционный стол.
В другой раз, в 1916 году (Ренуару было уже более 75 лет), когда я гостил у него в Канн, он поразил меня неожиданно безнадежным видом. Я говорил ему о картине, над которой он тогда работал.
– Мне больше не хочется писать… Я больше никуда не гожусь…
Ренуар при этом закрыл глаза с таким разбитым видом, что из опасения быть ему в тягость своим присутствием я сошел в сад.
Немного погодя меня позвала «большая Луиза»3.
– Мосье зовет вас в ателье!
Я застал Ренуара сияющим, за работой, перед мольбертом… Он бился над георгинами.
– Взгляните, Воллар, не правда ли, это почти так же блестяще, как какая-нибудь баталия Делакруа? Я уверен, что на этот раз я овладел секретом живописи; как грустно думать, что каждый шаг вперед есть в то же время и шаг к могиле!.. Пожить бы еще немножко, чтобы наконец сделать шедевр!
Легко догадаться, с каким нетерпением хотелось мне воспользоваться полученным еще при первом визите разрешением Ренуара снова побывать у него. Через неделю я отправился к нему опять. Это было вечером, после обеда. Он собирался ложиться спать.
– Так как сегодня вечером я один, я решил лечь раньше обыкновенного. Габриэль почитает мне «Даму из Монсоро»4. Я приглашаю вас принять участие в этом маленьком торжестве. Но «Даму из Монсоро» никак не удавалось найти.
– Ладно, – сказал Ренуар, – посмотрите, Габриэль, что там еще есть в библиотеке.
Габриэль, открыв стенной шкаф, где лежали вперемежку десятка два книг, перечисляла: «Жестокая загадка»5, «Автопортреты»6, «Письма к Франсуазе»7, «Исповедь влюбленного»***, «Вторая любовь»*, «Цветы зла»8.
Ренуар перебил:
– Вот книга, которую я терпеть не могу! Не знаю, кто это мне ее принес!.. Если бы вы слышали, как это привелось однажды мне в салоне мадам Ш., как кто-то, не помню, кажется, Мунэ-Сюлли, читал «Падаль»9и все эти индюшки кругом распускали слюни… Это то же самое, что и другие штуки, названия которых прочла Габриэль. Моим друзьям постоянно хотелось заставить меня проглотить кучу вещей; но наконец начинаешь бунтовать, не правда ли?
Габриэль продолжала: «Мой брат Ив»10, «Песня бродяг»11, «Отверженные»12.
Ренуар, слушавший до сих пор равнодушно, при последнем заглавии сделал жест отвращения.
Я. – Стихи Гюго считают прекрасными…
Ренуар. – Надо быть сумасшедшим, чтобы отрицать гений Гюго; но каково бы ни было его искусство, оно мне противно; в особенности я ненавижу этого человека за то, что это он разучил французов говорить просто. Габриэль, вы непременно купите мне завтра «Даму из Монсоро»! – И обращаясь ко мне:
– Какой шедевр!.. Глава, где Шико благословляет процессию…
– Мосье, – воскликнула вдруг Габриэль, – я нашла книгу Александра Дюма!
Лицо Ренуара прояснилось.
– Ага, что там такое?
И Габриэль торжествующе провозгласила:
– «Дама с камелиями»!13– Ни за что, – запротестовал Ренуар. – Я презираю все, что сделал сын, и эту книгу больше других. Сентиментальные воздыхания всегда внушали мне ужас!
* * *
На полке буфета в столовой я заметил маленький кофейный сервиз и два фарфоровых подсвечника, расписанные от руки, подобно тому, как это делают прилежные барышни. Я подумал, что это праздничный подарок.
– Это – единственные вещи, оставшиеся мне от моего прежнего ремесла живописца по фарфору, – сказал Ренуар.
И он рассказал мне несколько эпизодов из своей юности.
Глубоко заинтересованный услышанным, я принял за обыкновение всякий раз, как я видался с Ренуаром, просить его рассказывать что-нибудь из своей жизни. И вот здесь, в этой книге – история жизни великого живописца. Я заботился лишь о том, чтобы верно повторить его слова, которые я записывал изо дня в день с благочестивым усердием.
II. Начало
Ренуар. – Я родился в Лиможе в 1841 году. Сказать ли вам, что в моей семье передают легенду о нашем происхождении? По крайней мере от моей матери я часто слышал, что дедушка мой, человек знатного происхождения, семья которого погибла во время террора, еще совсем ребенком был подобран и усыновлен сапожником по фамилии Ренуар. Как бы то ни было, когда я появился на свет, мой отец был скромным ремесленником. Он с трудом перебивался у себя на родине и вскоре оказался вынужденным отправиться искать счастья в Париже.
Не просите меня рассказать вам что-нибудь о Лиможе: мне было едва четыре года, когда я оставил его навсегда. В Париже мы жили в доме, стоявшем на том участке улицы д’Аржантель, где она, продолжаясь через Карусель, оказывается как бы заключенной в ограде Лувра. Таким образом мои первые впечатления детства встают в моей памяти в той обстановке, среди которой Бальзак изобразил любовь барона Юло и мадам Марнеф14.
В коммунальной школе, куда я был отдан, я проводил время в рисовании человечков на моих тетрадях, за что получал замечания от учителей; но это нимало не огорчало моих родителей, совершенно довольных тем, что я в то время уже зарабатывал как живописец по фарфору. Естественно, что отец мой, происходя из города, славного своими керамиками15, считал живопись по фарфору лучшей из всех профессий в мире, лучшей даже, чем музыка, которой рекомендовал мне заняться не кто иной, как Гуно – в то время тридцатилетний преподаватель сольфеджио в нашей коммунальной школе и одновременно органист в капелле св. Евстафия. Когда было окончательно решено, что я предназначен быть «художником», меня отдали в ученье к хозяину керамического завода в Париже. Тринадцати лет я должен был зарабатывать свой хлеб. Мне поручали расписывать белый фон маленькими букетиками, – которые оплачивались по пять су за дюжину. Когда приходилось украшать более крупные вещи – букеты увеличивались и в этих случаях оплата повышалась, правда, минимально, так как патрон находил, что не в интересах самих «художников», если он слишком засыплет их золотом. Все наши изделия предназначались для Востока. Следует прибавить, что хозяин предусмотрительно заботился, чтобы на донышке каждой вещи ставилась марка Севрского завода.
Когда я стал несколько более уверен в себе, я сменил букетики на фигуры, по той же голодной расценке; припоминаю, что профиль Марии Антуанеты приносил мне по 8 су. Фабрика, где я работал, помещалась в улице Тампль. Я должен был являться туда к 8 часам утра. С десяти до полудня, во время перерыва, я бегал в Лувр рисовать с антиков. На завтрак я довольствовался чем попало, перехваченным где-нибудь набегу. И вот однажды, пробегая в районе рынков в поисках кого-нибудь из тех торговцев вином, которые продают готовые закуски, я вдруг остолбенел, очутившись перед «Фонтаном невинных» Жана Гужона, которого я до того не знал. Сейчас же я отказался от «бистро»16купив немножко сосисок тут же у соседнего мясника, я провел мой свободный час, блуждая вокруг «Фонтана невинных». Может быть в память этой старой встречи я сохранил к Гужону совершенно особенное пристрастие. Какая чистота, наивность и грация и в то же время какая основательность в обращении с материалом! Современные мраморы имеют вид высеченных из мыла, тогда как у старых мастеров все сделано будто тяжелыми ударами молота, а вместе с тем вы чувствуете живое тело.
Жермен Пилон хотел повторить Жана Гужона, но это ему не удалось. Его драпировки слишком сложны. Ужасно трудно передать драпировки! Как хорошо они у Гужона облегают тело, как помогают они видеть положение мускулов!
Но на чем же я остановился?.. Ага, я хотел вам сказать, что после утреннего перерыва, вернувшись из Лувра на фабрику, я до вечера расписывал свои тарелки и чашки. И это еще не все. После ужина я отправлялся к одному доброму старикану – скульптору, готовившему для моего хозяина модели кубков и ваз. Он подружился со мной и из симпатии ко мне давал копировать свои модели.
Через четыре года, с окончанием ученичества, передо мной, в мои семнадцать лет, открылась блестящая карьера живописца по фарфору, по шести франков в день, – как вдруг произошла катастрофа, разрушившая мои мечты о будущем.
В те времена впервые стали делать пробы печатания на фарфоре и фаянсе. Как это всегда бывает в тех случаях, когда ручной труд заменяется механическим, этот новый способ пользовался огромным успехом у публики. Так как нашей фабрике предстояло закрыться, я попытался конкурировать с машиной, работая по той же цене; но очень скоро пришлось от этого отказаться. Все торговцы, которым я предлагал свои чашки и блюдца, словно по уговору отвечали мне неизменно одно и то же: «Нет, это сделано от руки! Наши покупатели предпочитают машину, которая работает точнее!» Тогда я принялся расписывать веера. Сколько раз я копировал на них «Отправление на Киферу»!17 Первые живописцы, с которыми я близко познакомился таким путем, были: Ватто, Ланкре и Буше. Сказать точнее, первая картина, поразившая меня, была «Купающаяся Диана» Буше и я остался ей верен всю свою жизнь, как первой любви, несмотря на все уверения, что Буше – «только лишь декоратор» и что любить следовало бы не его. «Декоратор» – как будто это позорно! А Буше принадлежит к тем живописцам, которые лучше других поняли тело женщины. Молодые бедра и маленькие ямочки он писал совсем как следует. Смешно не хотеть признавать за человеком его достоинств! Говорят: «Я люблю Тициана больше чем Буше!» Черт возьми, и я тоже! Но ведь Буше делал таких прелестных маленьких женщин! Видите ли, живописец, если он чувствует, как сделать соски и бедра, – спасенный человек.
Или вот еще. Когда однажды в Лувре я восторгался «Пастушкой» Фрагонара в очаровательной юбке, которая сама по себе – уже целая картина, разве не пришлось мне услышать чье-то замечание, что пастушки того времени должны были бы быть так же грязны, как и теперь? Прежде всего мне наплевать на это, а потом, если это и правда, то мы тем более должны восхищаться живописцем, который, пользуясь грязными моделями, преподносит нам такую драгоценность!
Я. – А Шарден?
Ренуар. – Шарден… этот пачкун… он делал красивые натюрморты…
Я говорил вам о моих веерах. Это не был, к счастью, мой единственный источник дохода. Мой старший брат, медальер, добывал мне иногда заказы на копировку гербов. Я помню, что мне пришлось однажды делать св. Георгия со щитом, на котором я должен был изобразить другого св. Георгия в том же виде, и так далее до тех пор, пока последний щит с Георгием можно было различить только в увеличительное стекло.
Но и то и другое – и веера и св. Георгии – давали мало и я уже не знал, что дальше делать, как вдруг однажды, проходя по улице Дофина, я заметил в глубине одного двора через стекла большого кафе живописцев, расписывавших стены. Пройдя туда, я попал в разгар спора: хозяин ругал и проклинал своих «бездельников»: его кафе ни за что не будет расписано к сроку! Я сейчас же предложил ему сделать всю роспись.
«Но для этой работы мне нужно по крайней мере троих мастеров… и притом настоящих», – подчеркнул хозяин, так как я был мал и хил.
Не желая слушать дальше, я хватаю кисть и показываю упрямцу, что могу состязаться с кем угодно в быстроте работы. Судите сами, как он был рад, а, с другой стороны, и я был совершенно счастлив!
Окончив фрески в кафе, я без особенного энтузиазма вернулся к своим веерам, обещая себе бросить их при первой возможности. Случай вскоре представился. Проходя мимо какой-то мастерской, я увидел маленькое объявление на двери: «Требуется мастер для росписи штор». На всякий случай я вхожу. «Где вы работали?» – осведомляется хозяин. Захваченный врасплох, я отвечаю: «В Бордо». Я нарочно выбрал город подальше, воображая, что захотят на месте справиться о моих талантах. Но у хозяина было другое на уме. Он сказал «где вы работали?» потому, что это был обычный вопрос, с которым обращаются к рабочему, когда он просит работы. Он сейчас же прибавил: «Вы принесете мне образчик вашего уменья. До свиданья, молодой человек!»
Прежде чем уйти, я успел завязать разговор с одним из рабочих, который мне показался добрым малым и у которого я попросил несколько разъяснений относительно того, как расписывают шторы. «Приходите ко мне в следующее воскресенье, – ответил он мне, – я покажу вам, как работать; там поговорим».
Я не преминул отправиться к нему и прежде всего осведомился, очень ли строг хозяин. «О, он славный парень, – это мой дядя».
После некоторых колебаний я рискнул признаться, что никогда не расписывал штор.
«Э, не велика беда, – сказал он. – Приходилось ли вам уже писать фигуры?»
Я начал приходить в себя. Окончательно успокоился я, когда увидел, что живопись на шторах очень похожа на всякую другую живопись, – надо лишь разбавлять краску определенным количеством скипидара.
Прибавлю, что этот фабрикант штор работал на миссионеров, которые забирали с собой в рулонах свертки коленкора с написанными на них в подражание витражам религиозными сценами. Прибыв по назначению, миссионеры растягивали на подрамках эти холсты и негры получали иллюзию настоящей церкви.
Довольно быстро справился я с великолепной мадонной с волхвами и херувимами. Мой профессор не скрывал своего восхищения.
«Не рискнете ли вы одолеть св. Винцента?» – спросил он меня наконец.
Надо сказать, что в мадоннах фон картины делался из облаков, которые легко получались протиркой холста тряпкой, с одним только неудобством, что при недостатке сноровки краска затекала вам в рукава; тогда как св. Винцент требовал большего уменья. Этот персонаж обыкновенно изображался раздающим милостыню у церковных дверей, и следовательно в картине приходилось на фоне вводить архитектурный мотив. Выйдя не менее победоносно из этого второго испытания, я был немедленно нанят. Я занял место одного старого рабочего, гордости мастерской, который в то время заболел и по-видимому был безнадежен.
«Вы идете по его стопам, – говорил мне хозяин, – и решительно достигнете со временем его уменья».
Одно только смущало его. Он восхищался моей работой и даже уверял, что никогда не встречал такой ловкой руки, но, зная цену деньгам, был совершенно расстроен, наблюдая мое легкое обогащение. Мой предшественник, которого обыкновенно ставили в пример вновь поступившим, ничего не писал без долгой подготовки и заботливой разбивки на квадраты. Увидя, что я пишу фигуры сразу начисто, хозяин остолбенел: какое несчастье такая жадность к деньгам! «Увидите, – вы кончите тем, что погубите свои способности!..» Когда же он должен был наконец согласиться, что нет надобности в разбивке на квадраты, ему очень захотелось снизить мне плату; но племянник поддержал меня советом: «Не сдавайтесь, – говорил он мне, – он не сможет обойтись без вас!»
Однако, собрав маленькую сумму, я сам распрощался с фабрикантом штор. Можете себе представить его отчаяние. Он дошел до того, что обещал впоследствии передать свое дело мне, если я останусь работать. Но я не был ослеплен столь соблазнительными перспективами и так как у меня было на что прожить некоторое время (при условии, разумеется, не предаваться никаким излишествам), – я пошел учиться настоящей живописи у Глейра, где работали с живой модели.
III. В мастерской Глейра
Ренуар. – Я выбрал мастерскую Глейра потому, что должен был встретить там друга моего Лапорта, с которым был дружен с самого детства. И может быть я даже остался бы еще у моего фабриканта штор, если бы не Лапорт, который так торопил меня присоединиться к нему. Случилось, однако, что наша добрая дружба прекратилась – до того наши склонности были различны; но как я признателен Лапорту за то, что он побудил меня принять решение, вследствие которого я стал живописцем и познакомился с Моне, Сислеем и Базилем!
Глейр был очень почтенный швейцарский художник18 но как педагог он не был полезен своим ученикам; зато он предоставлял им полную свободу. Я не замедлил подружиться с тремя названными товарищами, один из которых, Базиль, подававший такие блестящие надежды, погиб совсем молодым, убитый в первом же сражении во время кампании.
1870 г. Лишь с трудом ему начинают воздавать должное. Первые покупатели «импрессионистов» не принимали всерьез его живопись, без сомнения, только потому, что Базиль был богат.
Я. – Кому из художников симпатизировали тогда вы и ваши друзья?
Ренуар. – Моне приехал из Гавра, где он познакомился с Ионкиндом, которого очень почитал. На Сислея больше всего влиял Коро. Что касается меня, я был поклонником Диаза. Надо заметить, что живопись Диаза, почерневшая со временем, тогда сияла, как драгоценные камни.
Я. – Вы не сказали мне ничего об Академии художеств…
Ренуар. – Академия художеств сильно отличалась от теперешней. В ней было лишь два предмета: рисунок по вечерам с 8 до 10 ч. и анатомия, для которой соседка Академии – медицинская школа любезно предоставляла трупы. Я посещал иногда эти занятия, но живописи я обучался у Глейра.
Я. – Какие профессора были у вас в Академии художеств?
Ренуар – Лучше других я помню Синьоля… Однажды во время рисования с античных фигур Синьоль, поправлявший рисунки, проходил мимо меня: «Разве вы не чувствуете, что большой палец ноги Германика должен выражать величие, какого не найти в большом пальце первого встречного угольщика?» И он торжественно повторил: «Большой палец Германика!..»В этот момент кто-то из соседей, недовольных своим рисунком, отпустил словечко, принятое Синьолем на свой счет. Заподозрив во мне виновника, Синьоль немедленно выставил меня за дверь. Живописный этюд, который я принес на его курс, положил начало его враждебному отношению ко мне. «Берегитесь, чтобы вам не сделаться вторым Делакруа!» – вскричал он вне себя от несчастного красного цвета, положенного мною на холст.
Я. – Теперь все-таки в этом отношении чувствуется прогресс. С вашим цветом начинают мириться, даже больше того – он уже нравится. В Люксембургском музее я встретил «знатока», который захлебывался от восторга: «У Ренуара божественные краски!» Но не хочу от вас скрывать, что он не был того же мнения о вашем рисунке. Проходя перед «Mater dolorosa»19, ваш поклонник вдруг остановился: «А все-таки какая дивная линия! Как жаль, что Ренуар не сочетает свой очаровательный цвет с рисунком Бугеро!»
Ренуар. – Ничего нет забавнее этих любителей. Я наблюдал как-то двоих, обсуждавших достоинства картины: «Да, без сомнения, в ней необыкновенные качества, – говорил один, – но скажите пожалуйста, это – жанр или историческая картина?»» Или еще лучше – опять я забываю имена… – вы знаете прекрасно этого торговца галстуками, который покупал Гюстава Моро… Словом, он мне показывал в своей вилле, в окрестностях Парижа, две маленькие парные вещицы, подписанные Коро. И когда я выразил сомнение в их подлинности, он успокоил меня: «Ну, здесь, в деревне, это сойдет…» Подумать только, что теперь я мог бы писать хоть миндальным молоком и это не уменьшило бы восторгов перед блеском моей живописи; а надо было видеть, какая грязь была на моей палитре в те времена, когда люди уже считали меня революционером! Но все-таки – надо признаться, я без особого энтузиазма плавал в битуме; меня толкнул на этот путь один торговец картинами, первый, который начал давать мне заказы. Много позже я понял происхождение этой страсти к черной живописи. Во время путешествия в Англию я познакомился с любителем, у которого, по его словам, был один Руссо… Пригласив меня к себе, он ввел меня в комнату на цыпочках из уважения к произведению мэтра и, отдернув занавеску, скрывавшую большое полотно, шёпотом произнес: «Смотрите!»
«Не правда ли, немножко черно?» – робко произнес я, узнав одно из моих старых произведений. Но, сдерживая снисходительную улыбку, вызванную моим недостатком вкуса, хозяин пустился в такие похвалы своей картине, что я не удержался и признался, что автор – я. Дальнейшее несколько озадачило меня. Бравый англичанин внезапно изменил мнение о достоинствах своего приобретения. Он не постеснялся в моем присутствии обрушиться с проклятиями на наглого мошенника, который вместо Руссо влепил ему Ренуара… А я-то вообразил, что мое имя уже становится известным! Эта сцена произошла в то время, когда я уже давно перестал употреблять битум.
Среди причин, побудивших меня бросить черную живопись, была одна особенная… Встреча с Диазом. Эта встреча произошла при забавных обстоятельствах, – когда я работал над этюдом в лесу Фонгенебло, куда мы отправлялись обычно летом вместе с Сислеем писать пейзажи. В те времена я еще надевал для работы, даже когда я писал вне дома, блузу, какую носят в мастерской живописцы по фарфору. На этот раз я повздорил с прохожими, которые подшучивали над моей блузой… Я огрызался, и дело начинало принимать дурной оборот. В этот момент появляется незнакомец на деревянной ноге и обращает в бегство моих обидчиков с помощью трости, которой он орудует с большим проворством. Когда я начинаю его благодарить, он говорит: «Я тоже художник, меня зовут Диаз». Я выразил ему восхищение его живописью и робко показал ему этюд, который писал. «Это неплохо нарисовано», – сказал Диаз. (Пожалуй, это— единственный случай, когда я слышал похвалу моему рисунку.) «Но почему, чёрт возьми, вы пишете так черно?» Тотчас же я начал пейзаж, стараясь передать свет на деревьях и в тенях на земле таким, как я его видел. «Ты с ума сошел, – воскликнул Сислей, увидев мой холст. – Что за фантазия делать голубые деревья и лиловую землю?»
Я. – В котором году вы в первый раз выставляли в Салоне?
Ренуар. – В 1863. Я послал большую махину. Забавно, что защищал меня Кабанель20 не потому, конечно, что ему нравилась моя живопись. Напротив, прежде всего он заявил, что она отвратительна. «Но, – поспешил он прибавить, – как бы то ни было, надо признать, что там есть кое-что!» Моя картина изображала Эсмеральду, танцующую с козой вокруг огня, освещавшего целую толпу оборванцев. Я еще вспоминаю отблески пламени и громадные тени на стенах собора. После Салона, не зная, что делать с такой громоздкой картиной, а также, надо признаться, из ненависти к битуму, от которого я еще не отделался окончательно, – я уничтожил эту вещь. Вообразите, как мне повезло: в тот же день ко мне явился англичанин, чтобы купить именно эту картину. Это была последняя вещь, которую я писал с битумом.
Мои товарищи по мастерской Глейра атаковали Салон тогда же, когда и я, но с меньшим успехом. Правда, в тот год были отвергнуты и другие художники, гораздо более нас известные, включая и Мане. Их неудача вызвала такие протесты в печати, что император Наполеон III согласился, чтобы в одном из отделений Лувра был устроен «Салон отверженных». Но организация выставки все-таки была поручена одному из академиков. Нечего и говорить, что экспонентам были предоставлены худшие залы музея. Как бы там ни было, в настоящее время трудно себе представить, чтобы подобная выставка в Лувре была устроена по почину министра искусств и чтобы Бонна21 согласился быть ее организатором. Во время Империи были очень либеральны. Нужно заметить, что тогда художников было меньше, чем теперь, и все-таки находили, что с ними слишком много хлопот. Типична отповедь Бальзака в ответ на предложение писать о Салоне: «Разве вы не знаете, что для этого мне пришлось бы просмотреть около четырехсот картин?!» А это было еще при Луи-Филиппе. Выставка «отверженных» разумеется, имела шумный успех скандала. Мане выставил свой «Завтрак на траве». В Салон эта картина не была принята столько же из-за живописи, которую нашли плохой, сколько и из-за сюжета, который сочли малопристойным. По-видимому члены жюри не считались с тем, что Мане лишь повторил один из сюжетов великой Венецианской школы, а в своей нагой женщине подражал одной из фигур Рафаэля.
В том же году (1863) я познакомился с Сезанном. Я разделял тогда с Базилем маленькую мастерскую в Батиньоле, на улице Кондамин. Базиль однажды вернулся домой в сопровождении двух молодых людей. «Я привел к тебе двух знаменитых новичков». Это были Сезанн и Писсаро.
Мне предстояло впоследствии близко сойтись с обоими, но особенно живые воспоминания оставил во мне Сезанн. Я думаю, что во всей истории живописи нет явления, подобного Сезанну. Дожить до 70 лет и с первого же дня, когда взял кисть, и до конца оставаться столь одиноким, словно он жил на необитаемом острове. И затем наряду с этой страстной любовью к своему искусству такое безразличие к уже законченным вещам, даже тогда, когда представлялась возможность их продать. Вообразите себе Сезанна, если бы у него не было ренты и он должен был бы ждать покупателей! Можете ли вы себе представить его принужденно улыбающимся «знатоку», который позволил бы себе не уважать Делакруа?! И вместе со всем этим так мало «практичен в жизни», как любил говорить он сам. Однажды я его встретил на улице с картиной подмышкой, почти волочащейся по земле. «Дома нет больше денег! Попробую продать эту вещь! Достаточно сделанный этюд, не правда ли?» (Это были знаменитые «Купальщики» из собрания Кайеботта, настоящее сокровище!)
Через несколько дней встречаю его опять.
«Дружище Ренуар, – говорит он растроганно, – я очень счастлив: моя картина имела громадный успех; она попала к человеку, который ею очень дорожит!»
Я подумал: «Какая удача! Он нашел ценителя!» Этот ценитель был Кабанер22, несчастный бедняга— музыкант, который с трудом зарабатывал четыре— пять франков в день. Сезанн встретил его на улице, и так как Кабанер пришел в восторг от картины, то и получил ее в подарок от художника.
Я никогда не забуду прекрасного времени, проведенного мною в окрестностях Экса, в доме отца Сезанна, в Жас де Буффан – этой прелестной постройке XVIII века. В ту эпоху умели строить дома, в которых было уютно и где можно было погреться у камина. И в самом деле, в большом салоне, с высоким потолком, должна была бы быть стужа и, однако же, когда мы сидели у камина с экраном за спиной, как было приятно-тепло! А эти великолепные укропные супы, которые готовила нам мать Сезанна! Добрейшая женщина! Я еще слышу ее голос: она дает рецепт этого супа: «Берут веточку укропа, маленькую чашечку оливкового масла…» Как будто это было вчера!
Ренуар продолжал. – Я говорил вам о Салоне 1863 г. На следующий год я не был столь удачлив. По милости жюри мне пришлось выставляться в «Салоне отверженных», но на этот раз успех отверженных был меньше. Это была последняя выставка в таком роде. Что касается меня, то в 1865 году мне еще раз повезло и я был допущен в салон Кабанеля с моей картиной, изображавшей молодого человека, гуляющего с собаками в лесу Фонтенебло; этот молодой человек был один из моих друзей – художник Лекер. Картина написана шпателем в виде исключения, так как этот способ мне не подходит. Но, впрочем, я вспоминаю, что в том же году я сделал тоже шпателем еще картину – «Охотница» – в натуральную величину. Я просто хотел сделать этюд нагой женщины. Но так как мою картину нашли малоприличной, я дал в руки модели лук и положил к ее ногам лань. Чтобы скрыть наготу тела, я прибавил звериную шкуру, и мой этюд превратился в «нимфу-охотницу». И все-таки мне не удавалось ее сбыть. Правда, однажды явился какой-то любитель, но продажа не состоялась, так как он хотел купить одну лань, а я не хотел «разрознивать» мою вещь.