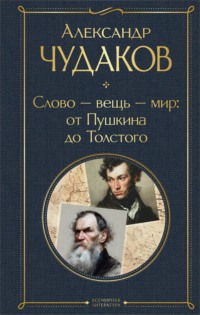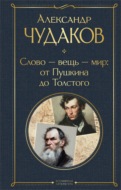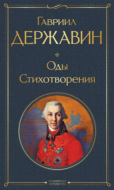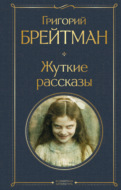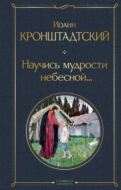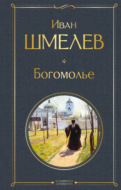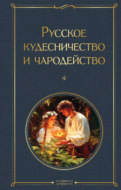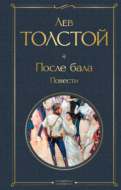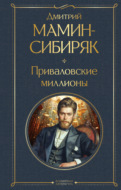Kitobni o'qish: «Слово – вещь – мир: от Пушкина до Толстого»
© Чудаков А. П., наследники, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет за собой уголовную, административную и гражданскую ответственность.
I
К поэтике пушкинской прозы
Мир писателя, если его понимать не метафорически, а терминологически – как некое объясняющее вселенную законченное описание со своими внутренними законами, в число своих основных компонентов включает: а) предметы (природные и рукотворные), расселенные в художественном пространстве-времени и тем превращенные в художественные предметы; б) героев, действующих в пространственном предметном мире и обладающих миром внутренним; в) событийность, которая присуща как совокупности предметов, так и сообществу героев; у последних события могут происходить как во внешней сфере, так только и целиком в их мире внутреннем. Изучение поэтики писателя и устанавливает прежде всего принципы и способы его описания предметов, героев и событий.
1
Одна из главных особенностей пушкинского прозаического описания издавна виделась в минимальном количестве подробностей. В объекте ищется главное, все остальное не отодвигается на второй план, но отбрасывается вовсе. «Читая Пушкина, кажется, видишь, – замечал К. Брюллов, – как он жжет молнием выжигу из обносков: в один удар тряпье в золу, и блестит чистый слиток золота» 1. На сопоставленье напрашиваются слова Гоголя, который говорил о себе, что он собирает «все тряпье, которое кружится ежедневно вокруг человека» 2. «Тряпичная» символика представляется многозначительной, подчеркивая разноту подхода к изображению предметного окружения человека. Бытовая вещь и подробность в прозу Пушкина имеет доступ ограниченный.
Это хорошо видно в его исторической прозе, несмотря на естественность в таковой художественно-реставраторских задач. Бытовой фон «Арапа Петра Великого» в значительной степени основан на очерках А. О. Корниловича. Но, например, «из подробного описания костюма Петра (у Корниловича упомянуто и нижнее платье, и цветные шерстяные чулки, и «башмаки на толстых подошвах и высоких каблуках с медными и стальными пряжками», и другие детали) Пушкин оставляет только зеленый кафтан» 3. Среди недостатков исторической романистики, перечисляемых Пушкиным, мелочная детализация названа прежде очень существенных других: «Сколько несообразностей, ненужных мелочей, важных упущений! сколько изысканности! а сверх всего, как мало жизни!» («Юрий Милославский, или Русские в 1612 году»). Во впечатлении необремененности пушкинских описаний (в том числе исторических) не последнюю роль играет замена характеристики указанием; крайнее выражение этого способа находим в «местоименном» изображении дня государыни в «Капитанской дочке»: «Она рассказала, в котором часу государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофей, прогуливалась; какие вельможи <…>; что изволила она <…> говорить <…>, кого принимала…»
Негативная программа и позитивный узус точно обозначены в авторском пассаже «Гробовщика»: «Не стану описывать ни русского кафтана Адриана Прохорова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, отступая в сем случае от обычая, принятого европейскими романистами. Полагаю, однако ж, не излишним заметить, что обе девицы надели желтые шляпки и красные башмаки…» Изобразительная скупость демонстративна; однако если нечто, что должно быть живописуемо, не живописуется, оно обозначается. В результате в описании оказались отмечены главные предметные признаки – и социально-временные («русский», «европейский»), и колористические («желтые», «красные»).
Не пришлось менять характера предметного изображения и в географически-этнографических описаниях – принцип разреженности существенных сведений очень там подошел: «Здесь начинается Грузия. Северные долины, орошаемые веселой Арагвою, сменили мрачные ущелия и грозный Терек. Вместо голых утесов я видел около себя зеленые горы и плодоносные деревья. Водопроводы доказывали присутствие образованности. Один из них поразил меня совершенством оптического обмана: вода, кажется, имеет свое течение по горе снизу вверх» («Путешествие в Арзрум»).
2
Наиболее отчетливо пушкинское ви́дение предметов обнаруживается в пейзаже.
Одна из основных черт прозаического пушкинского пейзажа заключается в том, что число природных феноменов, используемых в нем, исчислимо: время суток, положение светил, состояние атмосферы (ветер или его отсутствие, температура), общий вид окружающей местности. «Луна сияла, июльская ночь была тиха, изредка подымался ветерок, и легкий шорох пробегал по всему саду» («Дубровский»). Применительно, скажем, к Тургеневу о таком ограниченном наборе не может быть и речи – в каждом новом пейзаже возникают десятки новых непредсказуемых наблюдений-деталей о состоянии леса в разное время суток («еще сырой», «уже шумный»), посевов, о разных породах птиц, разном виде капель дождя и т. п.
Такая исчислимость делает то, что всякая деталь обнимает достаточно большой сегмент предметного мира; это необыкновенно усиливает ее значимость и вес. Данная черта свойственна и событийному повествованию; именно она позволяла сближать прозу Пушкина с его планами и черновыми программами 4: каждый пункт плана – по определению – захватывает существенный и новый отрезок пространства-времени.
Другое важнейшее свойство пушкинской пейзажной детали – ее единичность. Из каждой предметной сферы дается только одна подробность. О луне или ветре дважды не говорится. Если в описании бурана в «Капитанской дочке» о снеге упоминается во второй раз, то это уже другой снег: не «мелкий», а «хлопья». В одном из пейзажей «Путешествия в Арзрум» изображается тишина ночи: «Луна сияла; все было тихо». Может показаться, что в следующем предложении развивается тот же мотив: «…топот моей лошади один раздавался в ночном безмолвии». Но, по сути дела, это уже мотив новый: нарушение тишины, вторжение героя в безмолвие и безлюдье.
Очередная подробность не раскрывает, не поясняет предыдущую. Она – не мазок поверх уже положенной краски, придающей ей лишь новый оттенок, но мазок, кладущийся рядом, добавляющий краску иную; всякая последующая деталь вносит свой, добавочный признак. По мере движения повествования картина не углубляется, но дополняется и расширяется, пейзаж строится не по интенсивному, но по экстенсивному принципу.
Если из двух деталей вторая уточняет и конкретизирует первую, то вторая оказывается по отношению к первой в положении зависимости или, по крайней мере, тесной связанности. Когда же вторая – как в прозе Пушкина – этого не делает, то она ощущается как суверенная и самозначащая.
Мы подходим к важнейшему качеству мира пушкинской прозы – самостоятельности, резкой отграниченности в ней художественных предметов друг от друга – их отдельностности.
Прозаическая традиция XVIII в. (и особенно та, к которой был прикосновенен Пушкин, – карамзинская, а также проза романтиков) начинала пейзаж с некоей эмоционально-оценочной тезы: «Но всего приятнее для меня то место, на котором <…>. …великолепная 5 картина, особливо когда…» («Бедная Лиза»). У Карамзина, Жуковского, Марлинского, В. Одоевского, Ф. Глинки каждая деталь не столько предметна, сколько эмоциональна. В упомянутом пейзаже из «Бедной Лизы» находим «светлую реку», «цветущие луга», «легкие весла». Подробность не существует сама по себе, а соотносится с главным эмоциональным признаком тезы и с эмоциональной же окраской подробности соседней. Господствующая эмоция сливает детали в некое целое. Чрезвычайно характерны в этом отношении концовки многих пейзажей Жуковского: «…прекрасная сельская картина, исчезновение предметов». Или: «Все точно в тонком, светлом покрове».
У пушкинских пейзажей тоже есть теза. «Погода была ужасная» («Пиковая дама»); «Утро было прекрасное» («Капитанская дочка»); «Природа около нас была угрюма» («Путешествие в Арзрум»). Но сходство только внешнее – у Пушкина она не только оценочна, но и представляет собою обозначение некоего объективного качествования, которое далее и раскрывается. Чаще же всего теза имеет констатационный тематически-пространственный характер или просто является вступлением в последующее описание: «День жаркий» («Записки молодого человека»); «Солнце садилось» («В 179* году возвращался я…»). Подробность или вообще не соотносится с тезой (когда теза играет роль только приступа к описанию), или соотносится с нею независимо от своих соседок, их не задевая и не колебля, через их головы. Всеобъединяющей эмоции в пушкинском прозаическом пейзаже, в отличие от стихотворного 6, нет. Все это усиливает отдельностность частей изображенного мира – предметы не касаются друг друга.
3
Обнаруживается ли феномен отдельностности на более высоких уровнях художественной системы – внутреннего мира, построения характера персонажа?
Еще до окончания печатанья пушкинского романа рецензент писал об Онегине: «Судьи поблагоразумнее <…> советуют смотреть только на его изображение, не противоречит ли он сам себе и т. п. Одни говорят, что нельзя представить его личности как Дон Жуана Байронова, как некоторые лица Вальтер Скоттовы <…>. Иные вовсе отказались видеть в Онегине что-нибудь целое» 8.
В одной только первой главе «Евгения Онегина» находим множество авторских и неавторских характеристик, не очень сочетающихся друг с другом, как то: «молодой повеса» (самая первая, данная во второй строфе), «умен и очень мил», «ученый малый, но педант», «философ в осьмнадцать лет», «забав и роскоши дитя», «повеса пылкий», «непостоянный обожатель очаровательных актрис, почетный гражданин кулис», «отступник бурных наслаждений», «порядка враг и расточитель».
Но и в последней главе на героя примериваются разнообразные личины:
Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнет иной,
Иль просто будет добрый малый… (8, VIII).
Между ними в тексте романа возникает герой, внутренний мир которого буквально соткан из несоединимых черт. С одной стороны, «неподражательная странность» (1, XV), с другой – «подражанье <…> Чужих причуд истолкованье» (7, XXIV); то сказано, что он может «коснуться до всего слегка», возбуждая «улыбку дам», то в этой же главе говорится о его «язвительном споре», «злости мрачных эпиграмм»; «наука страсти нежной» вряд ли сочетается с «игрой страстей» (тоже в пределах 1-й главы) или даже «необузданных страстей» (4, IX). В 1 главе Онегин вместе с автором вспоминает «прежнюю любовь» и оценивает вместе с ним «начало жизни молодой» как «лес зеленый» по сравнению с теперешней, где они ощущают себя «колодниками». Но ни о какой любви в ранней молодости Онегина речь не шла; «начало жизни молодой» у него вовсе не было столь замечательно, чтоб вспоминать о нем с тоскою, – это была обычная юность петербургского денди – в романе она подробно описана.
Подобные противоречия давно были замечены 9.
Не меньше противоречий находим в характере Татьяны. Отметим только одно:
Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала
И выражалася с трудом
На языке своем родном (3, XXVI).
Но при этом
Татьяна верила преданьям
Простонародной старины (5, V).
Татьяна, русская душою… (5, IV).
О странности сочетанья этих черт говорил еще Белинский: «С одной стороны – „Татьяна верила преданьям простонародной старины” <…>. С другой стороны, Татьяна любила бродить по полям, „с печальной думою в очах, с французской книжкою в руках”» 10. Это же противоречие отметил академик А. С. Орлов: «Пушкин, создав в Татьяне идеал русской женщины, приписал ей чуткость к строю русского языка. Это находится в противоречии с утверждением Пушкина, будто девичье письмо Татьяны Онегину, отличающееся неподражаемым русизмом, переведено им с французского» 11. (С русско-французским письмом Татьяны дело вообще обстоит непросто.)
В Татьяне конца романа «и следов Татьяны прежней не мог Онегин обрести» (8, XIX). Но и это самое крупное несоответствие, или изменение, никак не объясняется автором. Благодаря изъятию путешествия Онегина была убрана даже минимальная мотивировка, точнее ее заместительница – выпущенная глава, где речь шла о другом, но проходило художественное время, за которое могла измениться героиня. Именно это, как известно, отметил П. А. Катенин.
В «Евгении Онегине», благодаря особенностям стихового романа, как показал Ю. Тынянов, эти противоречия обнажены.
Но принцип соединения самодостаточных и противоречивых черт в душе героя характерен и для пушкинской прозы, и для его драматургии.
Герой «Капитанской дочки» – недоросль, гоняющий голубей и облизывающийся «на шипучие пенки». Но через несколько месяцев это солдат, офицер, человек, которого уважает сам Пугачев; новый «шестнадцатилетний Гринев судит и действует, как тридцатишестилетний Пушкин. <…> Между Гриневым – дома и Гриневым – на военном совете – три месяца времени, а на самом деле по крайней мере десять лет роста» 12. Пушкина не занимало «реальное» объяснение. Ему нужно было другое: изобразить недоросля, а потом показать человека чести, русского дворянина в смутное время отечества – дать два отдельных состояния.
Спорят, патриот ли Димитрий Самозванец. С одной стороны, он уверяет, что русский народ «признает власть наместника Петра», т. е. перейдет в католичество, сам «Литву позвал на Русь». С другой – призывает «щадить русскую кровь».
Вопрос стоит не так. В этой сцене он действительно жалеет своих соотечественников, что не мешает ему быть иным в других сценах. Катенин заметил совершенно верно, что «самозванец не имеет решительной физиономии», т. е. единства характера. Некоторые из его речей далеко выходят за рамки, очерченные в прочих сценах. Это прежде всего монологи в сцене в Чудовом монастыре, где его оценка Пимена близка и самосознанию летописца, и пушкинскому взгляду на летописную историю и ее составителя. В сущности, в каждой из сцен этот герой совершенно разный, и каждое очередное обнаружение самостоятельно и вполне отдельно, оно не соотносится с предыдущим. Самозавершен в пределах каждой сцены и Борис.
Гершензон считал «художественной ошибкой» «описание графининой спальни, в которую вошел Германн. <…> подробное объективное описание графининой спальни, как ни хорошо оно само по себе, – серьезный художественный промах; всего, что здесь перечислено, Германн, конечно, не мог тогда видеть и сопоставлять в своем уме» 13. Но Пушкина, видимо, мало занимало эмпирическое правдоподобие – ему в данном месте нужен был герой, рефлектирующий по поводу XVIII века.
К Пушкину вполне применимы слова Пастернака о Шекспире, на которого, как известно, Пушкин ориентировался в «вольном и широком развитии характеров»: «Ни у кого сведения о человеке не достигают такой правильности, никто не излагал их так своевольно» 14. Речь, по сути, идет об изображении верных и точных, но отдельных состояний, которые именно поэтому можно сочетать в свободной «своевольной» композиции.
Герой Пушкина действует не в рамках реального правдоподобия, но в других масштабах и измерениях, где следующая сцена вовсе не обязательно продолжает нечто намеченное в характере героя в сцене предыдущей, она отдельна и автономна так же, как предметная деталь, не развивающая качеств ей предшествовавшей.
4
Важнейшую роль в создании эффекта отдельностности играет в прозе Пушкина явление равномасштабности.
Что это такое?
Явление, картина или предмет могут быть изображены двумя противоположными способами: 1) в общем или 2) через одну репрезентативную подробность.
Можно сказать: лунная ночь, но возможно и иначе: сверкает бутылочный осколок; можно написать: подул осенний ветер, а можно: затрепетал одинокий лист на голом дереве.
Эти описания – разного масштаба.
Для прозы сентиментализма, романтиков масштаб неважен: «Спят горы, спят леса, спит ратай».
У Пушкина – иное: «…буря утихла. Солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи» («Капитанская дочка»); «…ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пусты. Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока» («Пиковая дама»). Все подробности обоих пейзажей одномасштабны – будь это детали панорамного охвата (солнце, необозримая степь) или обзора урбанистически-замкнутого (фонари, хлопья снега, улицы, извозчик).
Элементы ландшафта пушкинской прозы – как на географической карте: река или дорога не может быть на ней дана в другом масштабе по сравнению с прочими элементами местности.
В крупномасштабный пушкинский пейзаж не может вторгнуться явление мелкое – например, хлопающая ставня или пискнувшая пичужка в огромном засыпающем лесу, как у Гончарова («Обломов»).
Это не значит, что Пушкин использовал только детали крупного плана. Они преобладают – особенно в пейзаже, но в принципе феномен одномасштабности не зависит от их абсолютной величины. Так, в описании жизни Сильвио в «Выстреле» («…ходил вечно пешком, в изношенном черном сюртуке, а держал открытый стол <…> обед его состоял из двух или трех блюд <…>. Стены его комнаты…») ни одна подробность не выходит за поставленные бытовые рамки и не касается других сфер. Зато в повести из римской жизни («Цезарь путешествовал…») в характеристике Петрония нет ни одной детали из области, не касающейся отношения его к мысли, философии, поэзии, жизни вообще: «Его суждения обыкновенно были быстры и верны. Равнодушие ко всему избавляло его от пристрастия, а искренность в отношении к самому себе делала его проницательным. Жизнь не могла представить ему ничего нового; он изведал все наслаждения; чувства его дремали, притуплённые привычностью, но ум его любил игру мыслей и гармонию слов. Охотно слушал философические рассуждения и сам писал стихи не хуже Катулла».
Принцип равномасштабности должен быть учитываем при сопоставлениях пушкинской прозы со всякой иной. А. Лежнев писал: «Иногда это почти импрессионистическая, почти чеховская деталь: „В лужицах была буря. Болота волновались белыми волнами…” Это сделано по тому же правилу, по которому лунная ночь показана через сверкание бутылочного осколка и тень от мельничного колеса» 15. Сходство пушкинских описаний с чеховскими находил и Ю. Олеша. Приведя отрывок из «Арапа Петра Великого» («смутно помня шарканья, приседания, табачный дым» и т. д.), он восклицал: «Ведь это совсем в манере Чехова!» 16 Оба уподобления могут быть оспорены 17.
Ю. Олеша тонко подметил мелодическое сходство и то, что изображение дано как бы в чеховском ключе – через восприятие героя. Но в подобных перечислениях у Чехова обычно объединены самые разнопланные явления, в том числе апредметные («…стала думать о студенте, о его любви <…>, о маме, об улице, о карандаше, о рояле…» – «После театра»). У Пушкина же все подробности из одной сферы и сравнимы как фрагменты той же самой предметной картины.
Детали из примера А. Лежнева тоже нечеховские: буря в луже и болоте – явления приблизительно одинакового масштаба. В письме, из которого взяты слова об осколке, Чехов советовал: «В описаниях природы надо хвататься за мелкие частности <…>. В сфере психики тоже частности» 18. Это чрезвычайно далеко от пушкинского видения-изображения – не изощренно-детального, но обобщенно-сущностного, запечатлевающего в облике как вещей, так и феноменов духовных определяющее и главное. Частностями и оттенками пожертвовано.
Существенность детали Пушкина отмечал еще Гоголь. Пушкин, писал В. Б. Шкловский, «вскрывает в действительности ее основные черты, видит в ней главное и „новое”, он стремился „к выделению самых существенных и главных, как бы общезначимых свойств предмета и не искал каких-нибудь другими не замечаемых и редких, но несущественных черт”» 19. «Пушкинские эпитеты выхватывают из глубины обозначенного предмета ясные и устойчивые признаки» 20.
Одномасштабность тесно связана с пушкинским сущностным литературно-предметным мышлением. Будучи подбираемы по строгому принципу достаточного количества некоей субстанции, предметы не могут сильно разниться.
Повествовательно-описательная дисциплина послепушкинской прозы зиждется на четкости позиции наблюдателя, соблюдении пространственной перспективы (Толстой, Чехов). У Пушкина описание с точки зрения воспринимающего лица строго не выдерживается. В 1-й главе «Путешествия в Арзрум» сообщается, что стада на вершинах гор были чуть видны и «казались насекомыми»; тем не менее делаются предположения о национальности их пастуха. Пушкинская равномасштабность имеет не внешнее композиционное обоснование, но внутренний регулятор. Это доказывается, в частности, ее универсальностью: она не зависит от характера повествователя (рассказчика) в разных прозаических текстах Пушкина.
В принципе равномасштабности Пушкин не имел последователей. Изображение предметного мира у Гоголя, Тургенева, Гончарова, Лескова, Чехова – продолжая сравнение – похоже не на строго выверенную карту, а на карту, выполненную более свободно; в нужных местах масштаб нарушается – на стоверстной схеме вдруг возникает толстая жила реки, могущая выглядеть так разве что на двухверстке, или рисунок памятника архитектуры, игнорирующий вообще всякий масштаб.
Но, для того чтобы этот масштаб стало возможным нарушать, надобно было его почувствовать и найти.
Приписывание предмету изображенного мира самостоятельной роли, возможность его отдельностного существования были важнейшими завоеваниями Пушкина, сразу положившими пропасть между ним и хронологически ближайшими литературными соседями – романтиками с предметной размытостью их прозы, поставившими его на совершенно новые литературные и метафизические позиции. Он видел твердые лики вещей.
Пушкинский предмет – объективно сущий предмет, он утверждается как данность. Онтологическую самостоятельность ему присваивает уже простая, нераспространенная и часто безэпитетная номинация.
Получив такой твердый предмет из рук Пушкина, русская литература могла (правда, после Гоголя) сделать его социально значимым в произведениях шестидесятников, свободно оставлять его в любой момент ради сфер более высоких у Достоевского, смогла обсуждать истинность или фальшь всего внешностного в романах Л. Толстого, дать колеблющийся облик предмета в сферах разных сознаний в прозе и драме Чехова – вплоть до «мистического исследования скрытой правды о вещах, откровения о вещах более вещных» 21 у символистов и новой у них «слиянности всех образов и вещей» 22.
5
Структура более крупных единиц художественного мира Пушкина – сюжетно-событийных, как и структура персонажа (см. § 3), обнаруживает изоморфность со структурой совокупности вещей.
А. События излагаются в их сути, дается как бы их ядро – без сопроводительного набора сопутствующих акций. «Наконец она почувствовала первые муки. Меры были приняты наскоро. Графа нашли способ удалить. Доктор приехал» («Арап Петра Великого»).
Б. Как в пейзаже каждая очередная фраза захватывает новый сегмент пространства, так при изложении событий всякая фраза не уточняет мотив уже заявленный, но вводит еще не бывший.
Устанавливая жанровые истоки пушкинской прозы, будущий исследователь, несомненно, среди первейших назовет жанры событийно-повествовательные, по преимуществу – путешествие, хронику, реляцию, летопись. Связь с ними пушкинских прозаических принципов отмечал еще В. В. Виноградов: «В основе летописного стиля и близкого к нему стиля „просторечных”, то есть свободных от правил литературного „красноречия” бытовых записей, дневников, мемуаров, анекдотов, хроник <…> лежит принцип быстрого и сжатого называния и перечисления главных или характеристических предметов и событий <…>. Это как бы „опорные пункты” жизненного движения – с точки зрения „летописца”» 23. В пушкинской прозе явны те «рецидивы» летописного стиля в литературе нового времени, о котором писал И. П. Еремин 24. В статье о «Слове о полку Игореве» Пушкин приводит такой отрывок из памятника: «Кони ржут за Сулою; звенит слава в Кыеве; трубы трубят в Новеграде; стоят стяги в Путивле; Игорь ждет мила брата Всеволода». Это восхитившее Пушкина «живое и быстрое описание», покрывающее при переходе от события к событию громадные расстояния, близко по характеру своего пространственно-временного движения к его собственной прозе.
В. Каждый очередной мотив по масштабу равен предыдущему.
«Наполеон шел на Москву; наши отступали; Москва тревожилась. Жители ее выбирались один за другим» («Рославлев»).
«Вскоре узнали о быстром приближении русских. Народ стал говорить о сдаче. Сераскир и войско думали защищаться. Произошел мятеж. Несколько франков были убиты озлобленной чернию. В лагерь наш (26-го утром) явились депутаты от народа и сераскира; день прошел в переговорах; в пять часов вечера депутаты отправились в Арзрум…» («Путешествие в Арзрум»).
«Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты; но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга; Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал: он умер в Москве, накануне вступления французов. Память его казалась священною для Маши, по крайней мере, она берегла все, что могло его напомнить: книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее» («Метель»).
Всякая из фраз-сообщений первого примера в равной степени важна в аспекте грандиозных или достаточно крупных событий; каждый мотив из второго примера столь же одинаково существен в сфере частной жизни – в отдельности он равно способен вызвать толки соседей героини, дивившихся «ее постоянству». Смена масштаба происходит на границах синтаксических целых (абзацев). Так, приведенный отрывок из «Метели» имеет следующее продолжение: «Между тем война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни…» Переход достаточно резок: от дел семейственных к событиям общенародным. Но после него, в новом синтаксическом целом, другой, крупный масштаб выдерживается столь же строго.
Для сравнения приведем пример из Чехова: «В Обручанове все постарели: Козов уже умер, у Родиона в избе детей стало еще больше, у Володьки выросла длинная рыжая борода. Живут по-прежнему бедно» («Новая дача»). Фраза про бороду выбивается из общего масштаба. Для событийной части пушкинского повествования включение такого «события» невозможно. Привлечение деталей другого событийного ряда есть факт стилистически отмеченный – черта «нелитературности». Письмо Орины Бузыревой молодому Дубровскому, повествующее о важных событиях («о здоровье папенькином», «животе и смерти», о том, что земский суд отдает его крестьян «под начал Кирилу Петровичу»), кончается именно такими деталями: «У нас дожди идут вот ужо друга неделя и пастух Родя помер около Миколина дня». Такое смещение у Пушкина может быть использовано только в юмористических целях.
Явление равномасштабности хотелось бы поставить в связь с ровностью эмоциональной поверхности пушкинского повествования и редкостью на ней всплесков и сломов авторского чувства.
6
Сущностно-отдельностный принцип предметно-событийного построения вполне поддержан на речевом уровне – характером синтаксических связей, как меж-, так и внутрифразовых. Это прежде всего паратаксичность в широком смысле: преобладание сочинительных связей над подчинительными, а бессоюзных – над союзными (недаром во всех руководствах по синтаксису и пунктуации – от Я. Грота до А. Шапиро – в качестве образчиков бессоюзных предложений так часто фигурируют примеры из прозы Пушкина), широкая распространенность присоединительных связей.
Но главным явлением в области синтаксического ритма пушкинской прозы, точнее соотношения в ней ритма и значения 25, представляется феномен, который можно назвать повествовательной равноценностью.
В связном повествовании в пределах одного синтаксического целого повторяющиеся структурно однотипные 26 конструкции повествовательно равноценны. Это значит, что единообразная синтаксическая расчлененность и более или менее равная протяженность фраз заставляют ждать одинакового же логического объема понятий или – шире – равноважности их содержания. От того, оправдывается или нет это ожидание, в прозе зависит многое.

Ритмико-синтаксическая одинаковость налицо. Но так как художественные предметы и событийные мотивы в пределах синтаксического целого в прозе Пушкина одномасштабны, то ожидание содержательного единообразия не обманывается. Синтаксическому ритму соответствует семантический 27.
Издавна отмечалось, что «проза Пушкина производит особое впечатление, не похожее на впечатление от прозы прозаиков» 28. Причину этого впечатления искали в родстве со стихами, понимаемом как количественное упорядочение слогов и ударений. Родство это глубже – оно восходит к главному принципу стиха, принципу сбывшегося ожидания. Но совпадение ожидаемого с реальным происходит в другой сфере. Так образуется прозаический ритм.
Каждая фраза пушкинской прозы охватывает равный с соседней по масштабу отрезок времени, сегмент пространства или равнозначащее событие. Нет перебива темпа, замедлений и ускорений – нет движения то шагом, то бегом. Шаг пушкинской прозы единообразен, как шаг винта.
Равномасштабность возможна только в отдельностном художественном мире: в прозе тесно взаимосвязанных деталей содержательный объем их различен – например, у подчиненно-конкретизирующей детали он меньше.
Эта проза выдерживает колоссальное смысловое и эмоциональное напряжение без существенного изменения ритма – подобно здоровому сердцу, которое при резко усилившейся нагрузке продолжает работать в том же равномерном темпе, но с каждым биеньем проталкивает лишь большее количество крови.
Не исчерпывая понятия гармоничности пушкинской прозы, повествовательная равноценность является, очевидно, одним из главнейших факторов, создающих впечатление ее «однообразной красивости», ее устойчивого равновесия, не колеблемого ничем. Ритм прежде всего является началом организующим; повествовательная равноценность препятствует разбрасыванию «отдельностных» художественных предметов и мотивов по плоскости повествования, она видимо и отчетливо объединяет и упорядочивает их.