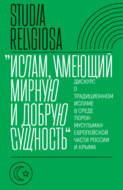Kitobni o'qish: «Святая негативность. Насилие и сакральное в философии Жоржа Батая», sahifa 3
«Историю глаза» (1928) – единственную книгу Батая, написанную до войны, – можно рассматривать как текст, все эти идеи развивающий и иллюстрирующий. В пользу этого свидетельствует и то, что оба произведения были созданы им примерно в одно и то же время и инспирированы прохождением в 1927–1928 годах курса психоанализа. Сам философ рассматривал их как имеющие для него терапевтическое значение – что и обыграл в послесловии к «Истории глаза», иронически озаглавленном «Совпадения»74.
Формально сюжет в этом тексте есть, но его пересказ по сути ничего не дает. Первоначально действие происходит в деревне или небольшом городке, где троица главных героев – безымянный рассказчик, девушки Симона и Марсель, – воплощают свои эротические фантазии, в результате чего эта последняя сначала попадает в сумасшедший дом, а потом кончает с собой. Действие второй части переносится в Испанию, где творится по большей части все то же самое: в заключительной сцене герои являются в храм и приносят в жертву священника. Все эти «события», однако же, служат лишь внешней рамкой для событий совсем иного рода, происходящих на грани между реальностью, кошмаром и текстом.
Определить жанр произведения в данном случае достаточно важно, и именно в связи с тем, что в нем происходит и какую роль играет в нем образ солнца. Конечно, это не роман в его традиционном понимании, которое Бретон раскритиковал еще в «Первом манифесте». Назвать его так можно, лишь поставив в один ряд с романами сюрреалистов – того же Бретона или же Арагона, как это делают, например, С. Фокин75 и С. Зенкин76. Ролан Барт предлагает считать «Историю глаза» поэмой – исходя из того что все происходящее в нем даже не претендует на какую-либо связь с реальностью, не могло бы произойти в действительности и целиком совершается в «сумрачном и пылающем регионе фантазмов»77. Поэтому основным мотивом текста становятся превращения одного и того же объекта, который не имеет какой-либо исходной формы, первообраза, но предстает в ряде обличий, объединенных округлой (шаро- или яйцеобразной) формой: яйцо, глаз, человеческие или бычьи тестикулы и, наконец, солнце (любопытно, что с глазом сравнивал солнце еще в VI книге «Государства» Платон: «Зрение ни само по себе, ни в том, в чем оно возникает – мы называем это глазом, – не есть Солнце […] Однако из орудий наших ощущений оно самое солнцеобразное»78. В насыщенном смертью и эротизмом воображении героев все они смешиваются и, можно сказать, процессуально пародируют друг друга, свободно переходя из одной формы в другую. Это же касается и нескольких других серий образов – например, нормандского шкафа-гильотины-исповедальни или загадочного священника-палача, который носит красный фригийский колпак и которого Марсель называет «Кардиналом»79. Хотя Батай и не слишком развивает эту мысль, очевидно, что уже здесь мы видим намек на святость насилия, данный в сближении этих двух образов.
«Привилегированное» положение солнца в поэме заключается, на мой взгляд, в том, что оно само и связанные с ним образы (его лучи, его свет или моча) неизменно маркируют переход персонажей в сюр- или ирреальный мир их фантазий – мрачных и переполненных насилием и смертью. Так, в сцене с сумасшедшим домом герои видят обмоченное и вывешенное сушиться белье Марсель, на котором остались следы «солнечного пятна» [tache de soleil]. Превращение мочи в свет здесь – одна из характерных для произведения ассоциативных трансмутаций: выше я уже отмечал эту типичную для раннего Батая связь между солнцем и экскрементами. Сразу же после этого герои, следуя какому-то неясному наитию и притом независимо друг от друга, начинают вдруг раздеваться и покидать реальный мир, «где люди ходят одетыми»80, переходя в иной, «состоящий из молний и зари»81. При этом они становятся похожими на диких животных: «Опьяненные и разнузданные, Симона и я выпустили друг друга и тут же помчались сквозь парк, как собаки»82; «…нам, Симоне и мне, пришлось убегать из замка сквозь враждебную тьму, подобно зверькам – голыми»83. Несколько далее Марсель вообще принимает Симону за волка: конечно, эта иллюзия рождается в ее больном воображении, но именно больное воображение и является основным содержанием поэмы, приобретая мировой масштаб и даже некое подобие объективности: «В этот раз наша личная галлюцинация развивалась столь же безгранично, как, скажем, глобальный кошмар человеческого общества с его землей, атмосферой и небом»84. Эта подробность важна хотя бы потому, что концепт животного состояния, т. е. погруженности в чистое насилие и тотальность пропитывающей жизнь смерти, после войны станет в философии Батая одним из центральных. Однако некое, пока еще художественное, предвосхищение его можно усмотреть уже здесь.
Солнечный свет – нечистый, загаженный мухами и слепящий – неизменно сопровождает героев в самых жестоких главах их воображаемой одиссеи, действие которой происходит в Испании. В Мадриде указание на «ирреальный» блеск солнца предшествует кровавому пиршеству на корриде: бык сначала поднимает на рога трех лошадей, а затем и самого неудачливого матадора. На основании этой и еще одной детали, а именно упомянутого выше красного фригийского колпака, Жан-Люк Стейнмец не без оснований предполагает наличие в произведении аллюзий на культ Митры, с которым философ безусловно был знаком хотя бы понаслышке, поскольку часто упоминает его в своих статьях 1929–1930 годов85. Затем в жертву приносится и сам бык, «солнечный монстр» – и божеством в данном случае можно смело назвать Симону, кровожадно поедающую сырыми его тестикулы86. Совершая таким образом насилие, она «хочет занять место на солнце»; рассказчик говорит, что «солнечное излучение растворяло нас в какой-то ирреальности, которая соответствовала… нашему бессильному желанию взрыва»87. Насильственное сияние солнца становится максимально ярким в Севилье, где главные герои в конце концов приносят в жертву священника: город наполнен «жаром и светом, от которых все расплывалось еще больше, чем в Мадриде»88. В заключительной сцене человеческого жертвоприношения солнце возникает в последний раз в уже знакомом нам образе солнечного ануса, будучи издевательски помещенным в анальное отверстие под видом вынутого из глазницы органа. Оно оказывается связано с обеими формами насилия, которые, по мысли Лесли Болдт-Айронс, можно выделить в поэме: это одновременно разрушительный потенциал, энергетическая «заряженность» человеческих тел и природных стихий, и радикальный выплеск энергии в момент убийства89. Добавлю, что в своем письме кузине Марии-Луизе Батай, написанном в 1922 году во время пребывания будущего тогда еще философа в Мадриде, он описывает свои чувства, используя именно этот интересующий нас термин – violence: «…я начинаю предчувствовать, что Испания полна насилия и великолепия»90.
Странно, однако, что все эти образы возникают лишь во второй части поэмы: действие первой куда чаще происходит ночью, в дождь или по крайней мере в «тягостный знойный день», но без солнца91. Мне, однако же, представляется возможным предположить, что солнце в ней все же присутствует, однако в ином виде: «жидкий» по природе своей солнечный свет отождествляется здесь с мочой. Эпитеты, которые автор относит к тому и другому, очень часто совпадают: например, струя мочи Марсель называется «светлой» и даже «сверкающей»92 и в следующей строке – violent, насильственной, яростной или резко-прерывистой93. Иногда автор сам проговаривает эту ассоциацию прямым текстом: «А когда я спросил, что ей вспоминается при слове „писать“, она ответила: „писать“ на глазе бритвой, и еще что-то красное, солнце»94. Здесь моча, как и солнце, связывается еще и с кровью – в другой сцене она течет из-под представшего гильотиной нормандского шкафа. Точкой дивергенции света и мочи здесь служит уже упомянутое «солнечное пятно», являющееся тем и другим одновременно: до его появления эта переменчивая субстанция сопровождает героев имманентно, поскольку они постоянно мочатся друг на друга, однако в нем насилие ирреального животного мира наконец обретает разъем, точку входа/выхода – своего рода врата, в равной мере отделяющие его от пустой реальности и позволяющие иногда ее покидать.
Понятия ирреального и ирреальности [irréel, irréalité], как уже было отмечено, интересуют меня прежде всего потому, что предшествуют сакральному. Для подобного утверждения имеются надежные текстуальные основания. Так, в «Теории религии» – сочинении, написанном Батаем спустя более двадцати лет после публикации первых текстов, – французский мыслитель заявляет об «ирреальности божественного мира», противопоставляя зыбкий мир жертвоприношения реальному, т. е. профанному миру пользы, труда и вещей: «сознание связано с полаганием объектов… вне всякого смутного восприятия, по ту сторону всегда ирреальных образов мышления, основанного на причастности»95. Однако это понятие он, разумеется, не выдумывает сам и не берет с потолка: именно так в «Элементарных формах религиозной жизни» (1912) определяет сакральное один из отцов-основателей социологии Эмиль Дюркгейм:
…посему для объяснения того, как в подобных условиях способно было оформиться понятие сакрального, большинство этих теоретиков вынуждены были признать, что над данной ему в наблюдении реальностью человек выстроил некий ирреальный мир [un monde irréel], целиком наполненный то волнующими его дух во время сна призрачными образами, то чудовищными извращениями, порожденными под престижным, но обманчивым влиянием языка96.
Примечательно, что в качестве едва ли не главного источника сакрального автор называет сновидения и языковые аберрации, тогда как мы все привыкли к идее его «предельной реальности», высказанной, например, Мирчей Элиаде97. В этом концепции Дюркгейма наряду с Батаем наследует также Рене Жирар, когда пишет: «Для нас, людей современных, божество лишено всякой реальности… поэтому и весь институт (жертвоприношения. – А. З.) в целом оказывается в конечном счете полностью отброшен в область воображаемого»98. Очевидно, что здесь мы имеем дело с двумя параллельными традициями трактовки сакрального, на различия в которых, между тем, до сих пор мало кто обращал внимание: если первая полагает его чем-то действительным, а профанное – чем-то иллюзорным, то вторая, напротив, помещает святое в область коллективного воображаемого. Наконец, можно вспомнить о том, что «ирреальностью» во французском переводе «Феноменологии духа» Гегеля называется не что иное, как смерть: «Смерть, если мы так назовем упомянутую ирреальность [фр. irréalité, нем. Unwirklichkeit], есть самое ужасное, и для того, чтобы удержать мертвое, требуется величайшая сила»99. Хотя до знакомства Батая с немецким философом пройдет еще несколько лет, вскоре он неизменно будет удерживать это сопоставление в памяти.
Вернемся, однако же, к «Истории глаза».
По сравнению со второй частью, в которой насилие сгущается до консистенции расплывчатого солнечного марева, недвижимо зависшего над головами героев, в первой дважды (так что едва ли это можно счесть случайным) упоминается присутствие еще более странного свойства, – а именно присутствие чудовища: «…как будто я хотел ускользнуть от объятий какого-то чудовища, и этим чудовищем не могло быть не что иное, как необычайное насилие моих движений»100; «…казалось, невидимое чудовище оторвало Марсель от решетки, которую крепко держала ее левая рука: и мы увидели, как она в беспамятстве падает навзничь»101. Батай указывает, что это присутствие не рождается нигде, кроме как в человеческом теле и в результате насильственного разрушения присущей ему субъектности, когда вдруг начинает казаться, что не сам человек, а кто-то или что-то иное, инаковое, владеет его телом – подобно тому как бесы владеют телом одержимого (т. е. буквально того, кем владеют – possédé). Насилие, которое рождается в агонических конвульсиях сотрясенного оргазмом тела, в результате его разрыва переходит от субъективного бытия к объективному. Превращение более конкретного чудовища в более абстрактную чудовищность в этих двух пассажах описывает как бы процессуальное воплощение насилия, вырвавшегося из тела в мир: оно все больше в нем растворяется, постепенно разжижаясь из присутствия сильного и субъективного в слабое и бессубъектное, которое затем возносится ввысь и становится солнцем – насилием, которое теперь уже не грубо швыряет людей оземь, а принимает от них жертвы.
Наконец, в поэме есть еще один образ, который связывает солнце с насилием и еще не раз встретится нам в текстах Батая, – а именно образ петуха. В тексте он появляется лишь единожды, но в том примечательном смысле, что это животное, чувствующее солнце и как бы приветствующее его, заранее обречено смерти: «Тошнотворный, абсурдный петушиный крик совпадал с моей жизнью: то есть теперь это был Кардинал – из-за своей надтреснутости, красного цвета, пронзительных криков, которые он вызывал в шкафу, а еще потому, что петухов режут…»102 Здесь возникает мотив, для «Истории глаза», по-видимому, уникальный: жизнь рассказчика, совпавшая с разрывающим реальность петушиным криком смертельной агонии и приветствия солнцу, впервые возводится в регистр самопожертвования, а не просто разгула насилия в форме эротического исступления или убийства кого-то другого. Кроме того, тема связи между петухом и солнцем могла быть инспирирована также стихотворением Гийома Аполлинера под названием «Зона» из сборника «Алкоголи» (1913), которое завершается метафорой рассвета: «Солнцу перерезали горло»103.
Несколько забегая вперед – дабы не возвращаться к данному вопросу впоследствии, – следует сказать, что совершенно ту же роль солнце играет в повести «Небесная синь». Выше я приводил описание солнца, вложенное в уста протагониста: оно представляется ему красным, страшным, взрывным. Кровь, которая вскоре потечет по мостовым охваченной гражданской войной Испании, он называет «солнечной», и свет в ней «взрывается и убивает»104. Кроме того, солнце здесь становится объектом созерцания и стимулятором экстаза: оно буквально выводит из себя, опрокидывает в безумие и допьяна смешит. Именно в этом фрагменте автор упоминает сверкающую «синеву полуденного неба», давшую название всей повести – ту синеву, в которой теряет самого себя человек. Здесь у Батая возникает еще один загадочный образ, заимствованный, вероятно, опять же у Ницше, – образ великого полдня, когда все вещи видны отчетливо, а становление человека и вселенной достигает своей кульминации: это час рождения сверхчеловека (в «Заратустре») и смерти бога (в «Веселой науке»)105. Батай, однако, склонен трактовать этот час не исторически, а экзистенциально, как апофеоз субъектности – в ее утрате, и вершину познания – в безумии. Однако полдень – это прыжок в беспредельное за гранью возможного, и поэтому свет в повести обычно являет себя в предметах, не связанных с солнцем напрямую и лишь на время погружающих главного героя в болезненную ирреальность, – это может быть, например, сияние белокурых волос, свет лампы или бродяга с пугающей «солнечной рожей», случайно встреченный им на улице, которую вскоре зальют ручьи крови106.
Икар и Ван Гог: мифология и теория жертвоприношения
Дальнейшее развитие образ солнца претерпевает в ряде статей Батая в журнале «Документы», где в 1929–1930 годах он занимает пост ответственного секретаря и находится во главе пестрого коллектива авторов: это в первую очередь сюрреалисты-перебежчики, специалисты в различных гуманитарных дисциплинах – искусствоведы, археологи, этнографы, – а также работники исследовательских учреждений, музеев и библиотек107. Здесь философ публикует провокационные тексты антиэстетического содержания, представляя, как гласил рекламный проспект, «факты, более всего вызывающие беспокойство, – факты, последствия которых еще не были заранее определены»108. В этих текстах он также предпринимает первый опыт последовательного изложения своей философии, к основному содержанию которой я еще вернусь. По замечанию его соратника Мишеля Лейриса, именно в статьях для «Документов» Батай начинает оттачивать тот специфический полуобъективный-полусубъективный стиль письма, ставший впоследствии отличительной чертой всех текстов философа109.
«Человеческие глаза не выдерживают ни солнца, ни совокупления, ни трупа, ни темноты, но реагируют на них по-разному», – писал он в «Солнечном анусе». Смотреть на солнце невозможно, но если рискнуть, оно предстает в кошмарном кроваво-красном обличье (поскольку светит сквозь прикрытые от боли веки): в этом, собственно, и заключается тот «факт», последствия которого не были заранее определены и определить которые берется Батай. Наиболее четко идея преображения солнца проговаривается им в эссе «Гнилое солнце» (1930), посвященном Пикассо: «Насколько прежнее солнце (то, на которое не смотрят) совершенно в своей красоте, настолько же то, на которое смотрят, может быть сочтено ужасающе уродливым»110. И далее: «Миф об Икаре с этой точки зрения является особенно выразительным и притом точным: он очевидным образом делит солнце надвое – на то, что светит в момент, когда Икар набирает высоту, и то, что расплавляет воск и способствует тому, что он терпит неудачу и с воплем падает, приблизившись к нему слишком близко»111. На самом деле, однако, здесь фигурирует не одно противопоставление, а опять же два: первое относится к различению солнца, на которое не смотрят, и солнца, на которое смотрят; второе – к амбивалентности этого второго солнца, влекущего к себе и разрушающего. Опыт смотрения на него Батай сравнивает с опытом человека, которого во время посвящения в митраистские мистерии кидают в яму, крытую плетнем из прутьев, чтобы затем заколоть над ним быка: посвящаемый, таким образом, оказывается с ног до головы залит кровью и шокирован звуками агонии зверя. Умирающий бык в это мгновение символизирует собой солнце, как бы излучающее чистое насилие в форме багрового сияния. В «Истории глаза», к слову, эта же яма встречалась читателю в образе нормандского шкафа-гильотины: текшая из-под него моча ассоциировалась также с кровью, в роли мистагога выступал Кардинал, а в роли посвящаемого и в то же время жертвенного животного – Марсель.
Однако теперь Батай связывает солнце с насилием, по преимуществу обращенным против самого актора, в связи с чем в тексте вновь возникает образ петуха: «…ужасный крик петуха, в особенности на восходе солнца, всегда соседствует с криком, который он издает, когда его режут. Можно добавить, что солнце в мифологии обозначается еще и человеком, перерезающим самому себе глотку, и, наконец, антропоморфным существом, которое лишено головы»112. Здесь момент приветствия солнцу отождествляется с моментом насильственной смерти. Ассоциация петуха с загадочным безголовым существом, о котором нам пока еще ничего не известно, выглядит тем более интересной, что с ее помощью философ намекает также и на способ, каким режут этих птиц, т. е. на отрезание головы. Возможно, он мог также принимать во внимание и характерную особенность их смерти – а именно то, что в течение некоторого, иногда весьма долгого, времени после смертельного удара их тела все еще продолжают как-то функционировать, бегать туда-сюда и заливать все кровью: так смерть вплетается в жизнь, и бытие, вызванное их союзом, наверное, можно было бы назвать и экстазом. При этом для Батая не столь важно, что в реальности петуха режет кто-то другой, поскольку символически его убивает солнце, и в то же время он сам убивает себя – на что указывают и последующие сравнения. Вероятно, здесь философ обращается также и к содержанию этого образа в греческой мифологии, где петух принадлежит одновременно горнему и подземному мирам и символизирует в том числе и целительную смерть-возрождение113. Можно вспомнить и загадочные слова Сократа в «Федоне», сказанные им перед тем, как принять губительный яд, – «Критон, мы должны Асклепию петуха. Так отдайте же, не забудьте»114, – соотнеся их с тем, что учитель ведет себя как самоубийца или, согласно популярной версии, как врач, прописавший самому себе лечение смертью115. Петух и Икар в эссе становятся, таким образом, концептуальными персонажами, выражающими идею солнечного субъекта, который является также и объектом собственного насилия; динамика его субъективации изображается как возвышение до небесных высот, за коим следует падение в глубочайшую бездну, которое философ называет «неслыханным насилием» [violence inouïe]116. Солнце при этом выступает как бы амбивалентным «движком» этого двойного события.
В «Жертвенном калечении и отрезанном ухе Винсента Ван Гога» (1930) Батай продолжает развивать ту же тему. Он начинает с рассказа о молодом художнике Гастоне Ф., в 1924 году откусившем себе палец на руке – по его словам, потому, что случайно взглянул на солнце и получил от него такой приказ117. Далее он пишет об одержимости самого Ван Гога образами солнца и подсолнухов – причем увядших, с которыми он, по-видимому, идентифицировал самого себя и ради цветения которых отрезал себе ухо бритвой, завернул его в платок и отнес в бордель к любимой проститутке Гогена. Другая молодая женщина, находясь в лечебнице для душевнобольных, получила от объятой пламенем божественной фигуры повеление отрезать себе уши – однако же, не найдя поблизости острых предметов, едва не вырвала себе вместо этого глаза. Подобные случаи Батай определяет как проявления духа жертвоприношения [l’esprit de sacrifice], который из-за своего полного упадка в наше время находит выражение почти что исключительно в сфере психических отклонений. Философ рассматривает различные формы калечения при инициации – обрезание, вырывание зубов или отрезание пальца, – и обнаруживает скрытый смысл всех этих обрядов в проекции «я» вовне, в насильственном выводе из самого себя и нарушении цельности собственного тела ради переживания бытности чем-то несоизмеримо большим, чем человек: «Разрыв персональной гомогенности, отбрасывание от себя некой части себя же, яростное и мучительное по своей сути, представляется неразрывно связанным с теми искуплением, трауром или разгулом, что открыто вызываются обрядами вступления во взрослое общество»118. Человек, поступающий так, становится подобен божественному солнцу: божественность же его обусловлена тем, что оно непрестанно приносит себя в жертву, будто бы отрывая от собственного тела куски и отшвыривая их прочь от себя в виде лучей, света и тепла. Здесь Батай впервые отчетливо отождествляет жертву с даром: se détruire для него равняется se donner, т. е. разрушать себя в каком-то смысле означает себя отдавать119. Правда, идея дара навсегда так и останется для него служебной по отношению к идее жертвы120.
Заключительная часть статьи представляется мне даже более значимой для понимания идеи жертвы у раннего Батая, чем его статья «Понятие траты» (1934), которой в этом вопросе обыкновенно отдают пальму первенства: здесь мы впервые встречаемся по меньшей мере с двумя понятиями и концептами, которыми он будет активно пользоваться впоследствии.
Во-первых, это идея того, что божество, жертвователь и жертва в контексте жертвоприношения становятся связаны друг с другом вплоть до неразличимости и предстают как бы единым существом. Прометей, например, в этом смысле оказывается един с божественным орлом, являющимся терзать его печень. Так человек, животное и бог сливаются между собой:
Обычно роли распределены между человеческим и животным воплощениями бога: иногда человек приносит в жертву зверя, иногда зверь – человека, но речь всякий раз идет о самокалечении, поскольку зверь и человек образуют единое существо. Орел-бог, отождествленный в античном воображении с солнцем, орел, который один только способен напрямую созерцать «солнце во всей славе его», икарическое существо, что отправляется искать небесный огонь, является… не кем иным, как тем, кто калечит самого себя – Винсентом Ван Гогом, Гастоном Ф.121
В изложенной здесь концепции имплицитно заложена идея, уникальная для батаевской трактовки жертвоприношения: в нем отсутствуют адресант и адресат. Жертва приносится не от кого-то кому-то, а просто так, поскольку в момент свободного дарения тот божественный объект, к которому устремлялся человек, сливается с ним самим, а значит – исчезает вовсе, унося его с собой. В качестве источника этой мысли сам Батай называет знаковую работу Юбера и Мосса «Очерк о природе и функциях жертвоприношения» (1899), чье влияние на него прослеживается весьма четко. Жертва для французских социологов – это акт разрушения, полное или частичное уничтожение приношения, которое при этом также изменяет и статус жертвователя. В процессе совершения обряда он как бы дополнительно на время приносит в жертву свое прежнее тело, которое становится телом принимающего жертву божества. В ходе ритуала между всеми его участниками – божеством, жертвователем и жертвой – при посредничестве религиозного профессионала, жреца, возникает своего рода таинственная связь: «В нем (жертвенном столбе. – А. З.), еще отчетливее, чем в жреце, выражается это сообщение [communication], это слияние богов и жертвователя, которое станет еще более завершенным в жертве»122. Наиболее трудным для перевода здесь является термин, который я интерпретирую как сообщение и который означает также причастие, приобщение, установление связи; особое внимание на него следует обратить потому, что в конце 1930-х годов в мысли Батая он станет одним из центральных. И далее читаем: «Вследствие этого сближения жертва, уже представляющая богов, начинает представлять и жертвователя. Недостаточно сказать, что она его представляет; она отождествляется с ним. Две личности сливаются между собой»123. Смысл обряда заключается в установлении контакта между профанным и сакральным мирами для освящения жертвователя; весь ритуал представляется социологам даже своего рода уловкой, поскольку по его завершении все должно вернуться на круги своя. Поэтому французские социологи специально указывают на то, что положение жертвователя в контексте ритуала «…становится двойственным. Ему надо коснуться животного, чтобы остаться единым с ним, однако он боится прикасаться к нему, поскольку рискует тем самым разделить его судьбу»124. Если до сих пор практически полное соответствие этой схемы батаевской было вполне очевидно, то здесь мы впервые встречаемся с серьезным расхождением: поскольку Батая интересуют прежде всего случаи самопожертвования, когда жертвователь изначально и есть жертва, его слияние с божеством видится философу окончательным и необратимым: он не может не разделить ее судьбы и не быть разрушенным. «Юбер и Мосс пренебрегают здесь примерами „жертвоприношения бога“, которые могли бы заимствовать из примеров самокалечения и лишь благодаря которым жертвоприношение утрачивает характер пустого кривляния», – отмечает он125. Акцент автора на самопожертвовании объясняется тем, что он делает этнологическое понятие жертвы философски насыщенным и выражает посредством него свой идеал субъекта как находящегося в процессе разрушения, т. е. мистического рассеяния. Философ Жан-Мишель Эймоне верно указывает на то, что делая акцент на тотальности жертвенного насилия, Батай также совершенно игнорирует моральную сторону вопроса, на которой так настаивают Юбер и Мосс126.
Во-вторых, в эссе впервые вводится оппозиция гомогенного и гетерогенного, которая пока еще объясняется лишь относительно отдельного индивида. Батай пишет, что смыслом жертвенного калечения является изменение [altération] существа, насильственный разрыв его персональной гомогенности, под которой подразумевается цельность или целостность его тела. «Гетерогенные элементы» возникают в результате трансмутации гомогенного путем его отделения от бывшего целого: так соотносятся, например, пища и рвота. Жертвоприношение, таким образом, является преобразующим отбрасыванием вовне чего-либо уже присвоенного человеком или обществом – но в измененном и часто сакральном качестве, каковое приобретают отрезанные уши или вырванные глаза, а также потоки крови, сопровождающие их отделение. Парадоксальным образом извергающийся, подобно вулкану, из самого себя жертвователь оказывается захвачен некой чудовищной силой, «которая может пожрать»127, – и при этом абсолютно свободен, в первую очередь от себя самого. Однако поскольку подобные явления теперь вызывают у нас чувства ненависти и отвращения, повторяет Батай, они практически исчезли с лица земли. Следует подчеркнуть, что хотя в статье обсуждается значительное количество тем, образ солнца занимает в ней одно из центральных мест и раз за разом возникает в связи с жертвой и насилием, творимыми ради приобщения к его пылающему существу.
Ван Гог здесь – конечно, не реальный человек, а концептуальный персонаж, призванный выразить эту идею. Спустя восемь лет Батай посвящает ему еще одну статью, «Ван Гог Прометей» (1938), в которой подводит итог своим мыслям на этот счет. Если раньше художник был лишь подобен солнцу, то теперь он вырывает его в образе уха из самого себя: «Солнце есть не что иное, как излучение, громадная потеря жара и света, пламя, взрыв; но оно удалено от людей, которые могут в безопасности наслаждаться безмятежными плодами этого великого катаклизма»128. Если раньше солнце и земля представлялись философу более или менее параллельными друг другу, хотя и нестабильными полюсами, меж которыми происходит коловращение всего сущего, теперь он окончательно становится дуалистом и противопоставляет их как растрату и накопление, как утвержденную в смерти жизнь и жалкое ее подобие, солидное и спокойное. Солнце есть сама смерть, и человек может либо воображать ее чем-то далеким, не имеющим к нему отношения и трансцендентным, либо целиком принять ее в свою жизнь и сделать ее саму сияющей, взрывной, пламенной. Бытие Солнца Батай называет «танцующим», но его танец – это пляска насилия [danse violente], ввергающая в экстаз. Поэтому «Вовсе не истории искусства, а кровавому мифу нашего существования как человеческих существ принадлежит Винсент Ван Гог. Он принадлежит к числу тех редких существ, что в мире, завороженном стабильностью, спячкой, вдруг достигают той „точки кипения“, без которой все стремящееся к покою становится пресным, нестерпимым, упадочным»129. И далее – чрезвычайно примечательное замечание, одно только и выдающее тот факт, что этот текст написан на пороге Второй мировой войны, когда философ был одержим фантазиями о создании «подлинного сообщества» и обретении им духовного, т. е. основанного на жертвоприношении, авторитета: он пишет, что связь «дикой участи человеческой» с излучением, пламенем или взрывом сообщает ей власть [puissance]130. Эта идея отсылает нас к батаевским концепциям, о которых еще пойдет речь далее – к идее безголового, трагического сообщества, которое становится таковым в результате добровольного жертвоприношения его вождя, и его еще более поздней трактовке феномена суверенности.