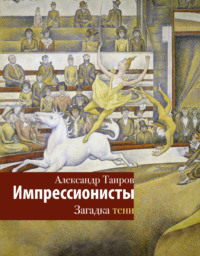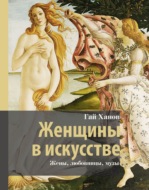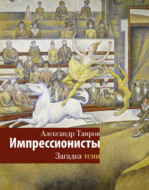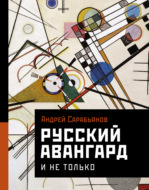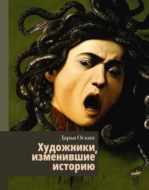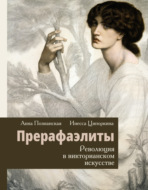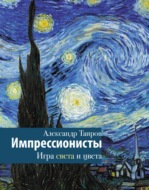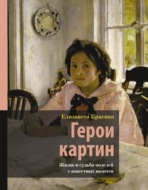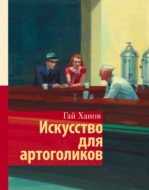Kitobni o'qish: «Импрессионисты. Загадка тени», sahifa 3
И таких сцен в танцевальных классах у Дега создана целая серия. Любая их интерпретация, разумеется, субъективна. При этом можно опираться на впечатления, основанные на внимательном прочтении всех подробностей, изображенных на картине, стараясь не упустить ни одной детали, привлекая свой житейский и интеллектуальный опыт и при этом, естественно, владея элементарными основами понимания законов визуального языка, композиции и цвета. Это позволит в какой-то мере приблизиться к осознанию того, что выражал в своих работах Дега.
Дело в том, что художник никогда до конца не может постичь, что он выражает в своей работе. В абсолютном смысле это объяснить невозможно. Он даже может оказаться провидцем, сам того не подозревая. В качестве примера можно вспомнить работу того же Дали – «Мягкая конструкция с вареными бобами» («Предчувствие гражданской войны»). Или «Купание красного коня» Петрова-Водкина. Все это говорит о том, что художник, как говорил Окуджава,, «как слышит, так и пишет». Он что-то, конечно, продумывает, но до конца не может полностью отдать себе отчет в том, каким будет результат. И вообще, он не обязан объяснять то, что создал. Это дело зрителя, интерпретатора и каждого смотрящего («красота в глазах смотрящего», как сказала Маргарет Волф Хангерфорд в своем романе «Молли Бэун»). Каждый, например, для себя должен объяснять его творчество с позиции определенного понимания, определенного знания и отношения с искусством.
Писателей и журналистов, которые пытались описать его искусство, Эдгар не переносил. Когда английский писатель и поэт Джордж Мур решил написать статью о Дега, тот возмутился: «Оставьте меня в покое! Вы пришли, чтобы пересчитать рубашки в моем гардеробе?» – «Нет, мсье, ради вашего искусства. Я попытаюсь рассказать о нем» – «Мое искусство! Что же вы собираетесь рассказать? Вы в состоянии объяснить достоинства картины тому, кто никогда ее не видел? А? Я могу найти самые верные, самые точные слова, чтобы растолковать, чего я хочу. Я говорил об искусстве с умнейшими людьми, и они ничего не поняли!.. Тем, кто понимает, слова не нужны. Вы говорите: «Гм!» или «О!» – и этим сказано все. Таково мое мнение… Я думаю, литература только мешает художникам. Вы заражаете художника тщеславием, вы прививаете ему любовь к суете, и это – всё. Вы ни на йоту не улучшили общественный вкус… Несмотря на вашу писанину, он никогда не был так низок, как сейчас. Разве нет? Вы даже не помогаете нам продавать нашу живопись. Человек покупает картину не потому, что прочел статью в газете, а потому, что его приятель, который, по его мнению, кое-что понимает в искусстве, скажет, что картина эта через десять лет будет стоить вдвое дороже, чем теперь… Ведь так?»
Статья Джорджа Мура сейчас – одно из самых ценных свидетельств современников об Эдгаре Дега. Кроме всего прочего Мур говорил: «Как бы там ни было, единственное его желание сейчас – избежать настойчивого любопытства публики. Он хочет одного – чтобы глаза позволили ему работать по десять часов в сутки».
Итак, рассмотрим картину «Танцевальный класс». Перед нами многофигурная композиция, изображающая репетицию танцевального номера. Героиня картины приготовилась исполнить танец, встав в определенную позицию, с которой готова начать движение, как только заиграет музыка. Она сосредоточена, собрана – в состоянии полной готовности. Мы видим ее отражение в зеркале. Как прекрасно это выстроено! Она – средоточие того, что в следующее мгновение здесь будет происходить, и готова продемонстрировать танцевальный номер. Остальные персонажи выполняют второстепенные роли. Все заняты своими делами. Кто-то у стенки делает свои упражнения. В это время она как бы абсолютно отсутствует, вся в себе. Наверняка у многих в жизни тоже такое бывало: пытаясь что-то продемонстрировать, вы сосредотачиваетесь на определенном действии. Вы один на один с проблемой. У других свои заботы. Окружающие в этот момент или заняты своими мыслями, кто-то со злорадным любопытством наблюдает, как у вас получится, и только немногие смотрят на вас заинтересованно, с сочувствием. Дега со знанием дела передал всю психологическую палитру переживаний.
Балерина – центр события. Сосредоточилась, внутренне замкнулась, как это бывает, когда человек уходит в себя. Художник тонко передал состояние, когда за неподвижностью скрывается напряжение. Еще немного, аккомпаниатор взмахнет смычком – и польется музыка. Важна даже такая незначительная деталь, как лейка – зачем она здесь стоит? Очевидно, для увлажнения пола, чтобы не поднималась пыль.
Каждая деталь на картине дает понять, как пристально Дега наблюдает за жизнью закулисья. Шляпа небрежно брошена на пол. Что же в ней? Ноты, небрежно сунутые в шляпу. Красноречивая деталь, рассказывающая о том, что здесь происходит. Футляр от скрипки брошен на пол. Все эти элементы создают эффект действия, происходящего здесь и сейчас. Художник специально не положил ноты и футляр от скрипки на фортепиано, создавая ощущение сиюминутности, спонтанности, как если бы наблюдал и фиксировал непосредственное развитие сюжета. Это придает происходящему большую естественность. Ту самую естественность, которую Дега конструирует и о которой как бы в очередной раз говорит – «наблюдай, не рисуя, и рисуй, не наблюдая». То есть он что-то увидел, что-то подсмотрел, и только потом уже воплощает, интерпретирует в своем произведении. В итоге возникает ощущение реальности, побуждая сопереживать по поводу происходящего. Мы слышим музыку в картине, чувствуем ритм, состоящий из чередования пачек, из вертикальных линий, ее фигуры, которая как бы уже танцует, в платье, с бархоткой на шее. Все это погружает нас в волшебную атмосферу танца.
Совсем иная ситуация в произведении «Репетиция балета», где изображена подготовка одной из сцен спектакля. Здесь сразу видна фигура хозяина – по развязной позе, в которой он расположился на заднем плане: он центральная фигура. Даже не нужно объяснять, кто здесь все решает и от кого все зависит. Второй персонаж более сосредоточен. Он не столь значителен в сравнении с вышеупомянутой фигурой и не может себе позволить расположиться столь вольготно.
Так ненавязчиво Дега изобразил иерархическое взаимодействие между людьми. Если кто-то хотя бы на минуту вообразит, что не подчиняется иерархическому характеру взаимодействия, считая себя свободным и независимым, то это глубокое заблуждение. Вольно или невольно, находясь в любой структуре, мы подчиняемся законам субординации. Всеми своими движениями, жестами, поведением, походкой, манерой говорить демонстрируем, вольно или невольно, на какой ступени, где находимся по отношению к этой иерархии. Многим из нас не раз приходилось наблюдать, как происходит общение между начальником и подчиненным, как они ведут себя по отношению друг к другу, где неизменно соблюдается субординация. Стоит только нарушить законы иерархии, и сразу следует возмездие – иерархия не оставляет без последствий нарушение правил. Такое же подчинение стаи вожаку наблюдается и среди животных. Так «придумала» Природа. В этом присутствует глубокий смысл, который подметил и изобразил Дега в этой мизансцене. Он напоминает: такова реальность. Помимо двух главных героев, мы видим других участников действия на сцене: одна часть декораций уже стоит, другая часть только монтируется, что говорит об основном прогоне, когда вносятся окончательные поправки перед предстоящим спектаклем.

Э. Дега. Репетиция балета. 1877. Собрание Баррела. Глазго
То, что сейчас описывается при взгляде на картину, есть предмет неких предположений на основе рассмотрения сюжета, представленного на полотне. При этом мы должны понимать, что они основаны на анализе взаимодействия цвета, элементов композиции, в качестве которых, помимо предметов, выступают персонажи, изображенные на картине. Все вышеперечисленное создает предпосылки для рассуждений, позволяющих прийти к выводам, которые с той или иной степенью достоверности могут позволить понять и объяснить содержание происходящего в произведении художника.
Каждый зритель, опираясь на свои представления, в меру своего понимания, опыта, ассоциаций, возникающих в воображении, может рассказать свою историю происходящего на полотне. Важно, что Дега своим проникновенным мастерством дает повод для нашего субъективного проживания жизни, изображенной на картине. В таком случае картина перестает быть простой иллюстрацией. Полотно Дега, как, впрочем, и любого выдающегося художника становится произведением, являющимся поводом к переживанию и проживанию какой-то истории, связанной с сюжетом картины. Любое искусство задает нам импульс к собственному бытованию в этом мире. Без этого искусство немыслимо. Произведение искусства заставляет переживать особенное состояние при условии полного погружения. Можно попробовать выстроить развитие сюжета, можно переживать, испытывать симпатии, антипатии, что угодно, если возникнут некие мотивы и предрасположенность, вытекающие из содержания, помноженного на воображение.
Сила внутренней гармонии «Голубых танцовщиц»
Теперь рассмотрим одно из самых известных произведений Дега – «Голубые танцовщицы». Они не были бы столь впечатляющими, если бы не были выстроены композиционно в стройной связи и в «каркасной решетке». Здесь сила воздействия изображенного заключается не только в цвете, но и во взаимодействии рук, плеч, голов балерин по отношению друг к другу. Идет органичная конструктивная сцепка между линиями. Дега просто скрепляет их во внутренней взаимосвязи через ритмическое построение. Картина сильна своим ярко выраженным внутренним ритмом.

Э. Дега. Голубые танцовщицы. 1897. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Москва
Дега – новатор в том смысле, что первым стал рассматривать события в неожиданном ракурсе. Между тем, когда появилось это произведение, многие стали подвергать его критике, объясняя ее тем, что он не умеет размещать фигуры в пространстве и из-за этого якобы и обрезал их в разных местах, чтобы избежать сложности для себя, рисуя их целиком. На самом деле, все обстояло иначе. Для художника было важно именно сочетание всех частей композиции в картине. Что же он наблюдает: разные цветовые пятна, ритм рук, плеч – все согласовано в стройном, гармоническом движении.
Даже цвет сам по себе так эффектно не работал, если бы композиция не содержала в себе движение – энергичное и изящное одновременно. Одни искусствоведы утверждают, что это танец. Другие – «нет, они просто поправляют воланы костюма». Третьи – «художник нарисовал одну и ту же модель, повернув в разных ракурсах». Итак, нам предлагается много различных трактовок. Ну и что с того? В какой мере это волнует зрителя? Дега создал нечто удивительное и гармоничное, заполненное мерцающим светом и цветом. Искрятся даже полупрозрачные оттенки цветов! Кстати, позже, когда его зрение стало ухудшаться, он перешел на пастель, которая ему позволила находиться вплотную к картине, это несколько осложняло работу, дело в том, что во время работы художник, вынужден отходить время от времени от картины, чтобы воспринять изображение целиком. Пастель Дега разбавлял горячей водой и писал ею, как маслом, поэтому она приобрела такую прозрачность. Как следствие, многие его работы этого периода были выполнены пастелью, в том числе и «Голубые танцовщицы». А когда пишешь пастелью, то линия не играет существенной роли – она вся размыта.
Плечи танцовщиц мерцают необыкновенными вспышками. Все спрашивают: в чем очарование этой картины? Вспышками света! А где источник? Не вполне понятно. Дега никогда не руководствовался канонами. Ведь по традиции, характер теней, их направленность определяются в соответствии с тем, откуда падает свет. У Дега же падает свет ниоткуда – он художник, он творец, он не создает копии реальности, а создает новую, иную реальность.
В то время возникло противоречие между молодыми художниками, и теми, кто считал, что нужно воспроизводить реальность как можно правдоподобней. Ведь классическое искусство, как правило, облагораживало изображаемых персонажей, придавая им идеализированные черты. В связи с этим вспоминается конфликт, возникший у Гогена, когда он написал портрет какой-то важной дамы с красным носом (ничего личного, только искусство!) и, естественно, получил отказ от полотна с последовавшими за этим критическими высказываниями и обвинении чуть ли не в шарлатанстве в свой адрес. На самом же деле, какой он ее увидел своим фовистским взглядом, такой и написал, нисколько не приукрашивая. С другой стороны, возмущение заказчика вполне понятно. Нам всем присуще желание выглядеть как можно презентабельнее. К примеру, об этом хорошо написано у Гоголя в «Женитьбе: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому ещё дородности Ивана Павловича – я бы тогда тотчас же решилась…».
Любой из нас мечтает, глядя на себя в зеркало: если бы мне немножечко уши поменьше, не такие растопыренные, горбинку с носа убрать, скулы обозначить, изменить фигуру, ноги бы подлиннее отрастить, то «я бы ого-го!» Но мало кто рождается идеальным. Каждый живет с какими-то изъянами. Заказчикам, когда они обращаются к художникам, хочется видеть себя лучше, поблагороднее обликом. Сообразно этому в классическом искусстве создавались парадные портреты людей, одетых, например, в блестящие, сверкающие одежды с улучшенными чертами лица. А если моделью был некая властная особа, то его изображали даже повыше ростом и в помпезном обрамлении.
Когда же мы говорим о реальности жизни, которую провозглашали импрессионисты, то находим прелесть в спонтанности и нетривиальности. И Дега как раз относится к тем художникам, которые, говоря словами Дени Дидро, «видели необычное в обычном и обычное в необычном», воплощая это в своих произведениях. Свое предназначение он видел в том, чтобы превращать неблагородное в благородное. Он делал предметом искусства те объекты и явления, на которые мы бы даже не обратили бы внимания. Тем временем он изображает обычную гладильщицу так, что она, вся озаренная светом, превращается в предмет искусства. На нее отовсюду падает свет. Дега показывает, как она проводит круговыми движениями по ткани, как она гладит, поправляет ткань. Изображает рядом стоящую воду для увлажнения ткани. Так мастер знакомит нас с красотой повседневного быта. Яркий пример – запоминающаяся по цвету работа «Гладильщица». Дега говорил: «Я пишу балерин для того, чтобы написать ткани и движения». Для него важна такая работа, как предмет восторга, предмет любования. В этом смысле нас искусство чуть-чуть облагораживает. Стоит вспомнить античную фразу, которая гласит, что искусство смягчает нравы, делает нас возвышеннее. В любом случае, оно нас изменяет.

Э. Дега. Гладильщица. 1884. Музей Орсе. Париж
Когда Дега изображает обычный труд в необычном варианте, он – этот труд – как бы облагораживается. Можно найти неизъяснимую прелесть и поэтику во всем, что он изобразил: живописно висящие, ниспадающие ткани, наклоненная фигура гладильщицы, ее светящиеся руки, вертикальный ритм висящих рубашек, оконные переплеты, даже динамика стола не случайна. И все изображено в неожиданном ракурсе. Художник взирает на модель с некоторого возвышения. Динамика стола создает композиционное окружение, которое сочетается с наклоненной фигурой женщины, фиксирующей наше внимание, в результате чего возникает ощущение того, как она с определенным напряжением надавливает, концентрируя усилия на ручке утюга – давит и гладит. Все это передает энергию движения. Используя эти приемы, мастер насыщает свое полотно внутренним напряжением. Перекличка цветов, жестов, линий – все вместе создает своеобразную, необычную картину, которая становится предметом эстетического созерцания, рождающего эмоциональный отклик.
Любое искусство есть сложная иллюзия
Посмотрите на его серию «Танцовщиц». Картина «Выход танцовщиц в масках». На ней он изобразил совмещенными фигуры в масках на заднем высвеченном фоне. На переднем плане две танцовщицы. При внимательном взгляде на взаимодействие персонажей становится очевидным их антагонизм. Одна из них буквально отворачивается от своей партнерши. Дега изобразил определенную мини-драму, противопоставляя бирюзовый и розовый цвета. Он дает нам повод для размышлений: что происходило или что происходит постоянно в творческих коллективах? Ведь известно, что любая труппа насыщена внутренними противоречиями, из-за возникающего соперничества: очень важно, кто выходит первым на сцену, кто получает аплодисменты и вообще является бенефициаром представления. Можно предположить как обычно думают обиженные актрисы: «Она же получает главные роли, бесконечные аплодисменты – бездарная, гадкая, низкая, ненавижу ее… за то… что она так хороша! за то, что она лучше меня, и, порой, о ужас! даже готова ее «убить» за это!». Такую драму мастер и изобразил в этой картине. Как точно это подмечено!

Э. Дега. Выход танцовщиц в масках. 1879. Институт искусств Стерлинга и Франсин Кларк. Вильямстон
Внимательный и наблюдательный взгляд художника, искусная интерпретация делает эту картину остросюжетной – происходящее гротескно и в то же время близко к тому, как устроено в реальности. Состояние персонажей картины узнаваемо и его можно по-настоящему пережить. Что интересно: когда мы приходим на такого рода выставки, то, как бы, размножаемся в своем воображении. Этому есть объяснение. Мы действительно проживаем несколько жизней даже в течение двух экскурсионных часов, проходя разные стадии состояний (при условии, конечно, полного погружения), переживая состояние героев картин. Это совсем не та жизнь, которая проходит за стенами выставочных залов. Она другая. «Таких две жизни за одну/Но только полную тревог,/Я променял бы, если б мог», – писал Михаил Лермонтов в «Мцыри». А мы проживаем не одну, а несколько жизней за время посещения художественной галереи. Пусть на незначительное время, но происходит своего рода перерождение. Более того, проживая несколько жизней, мы имеем возможность сравнить свое «Я» с теми «Я», которые вдруг обнаруживаются в нас, которые, внезапно в себе ощущаем. В то же время возникает возможность взглянуть на себя извне, где мы предстаем такими разными перед своим внутренним взором, при этом везде «Я» остается самим собой. Порой случается, что в такие моменты происходит переоценка ценностей.
При созерцании этого полотна происходит подобное. Дега закольцовывает пространство сцены в своеобразное мироздание не случайно. Он бы мог обрезать какую-то композицию, и была бы совершенно другая картина. Этот «пятачок» сцены художник уподобляет космосу, в котором живут персонажи картин. Любопытная проекция, которая помогает представить происходящее на полотне в виде некоего мироздания, в котором происходят разные события, флуктуации, где случаются некие взрывы, возникает мощные всплески энергии, где происходят созидательные и разрушительные процессы. Казалось бы, откуда тут взяться разрушительным процессам? Тем не менее они есть. Говорится же: «Творческий коллектив – террариум единомышленников».
И ведь не случайно так его называют. Внутри любого творческого коллектива происходят столкновения и переплетения самостей, личностей, почти каждая из которых исполнена самолюбия и завышенных ожиданий, но не каждому удается себя реализовать в силу множества разных причин. У кого-то есть покровители вроде того господина, о котором упоминалось выше. Если попробовать восстать против него – сразу можно оказаться за бортом этой «вселенной», куда с неизбежностью вытолкнет центробежная сила. Подобная экстраполяция позволяет отчетливей воспринять, что это своего рода космос со всеми присущими ему закономерностями. Тут заметно, например, волнение дирижера, который беспокоится, что «хозяину» может что-то не понравиться. Одна из балерин зевает. Используя определенные композиционные приемы и отточенные выразительные средства, Дега вовлекает зрителя в мир, свидетелем которого ему неоднократно доводилось быть. Он искусный иллюзионист! Вообще, любое искусство можно уподобить своего рода иллюзии. Ведь человек на плоскости изображает то, что происходит в пространстве и времени. Художник создает иллюзию пространства, иллюзию фигур, иллюзию происходящих событий во времени. Мы попадаем в этот удивительный плен, где проживаем череду необыкновенных, странных ассоциаций.
А эта картина называется «Звезда». Здесь художник изобразил концентрацию усилий и надежды девушки на будущий успех. Рисует ее сверху, как будто его подвесили на веревках. Или так вообразил свою очаровательную героиню – в апофеозе, осыпанную цветами, опьяненную высокими чувствами. Это своеобразное вознесение на определенную высоту. Когда паришь над всеми, над толпой! Зал с вожделением смотрит на тебя, восхищается тобой, и в этот краткий момент кульминации все готовы тебя носить на руках. Эти минуты славы актеров, которые очаровывают зрителей. Подобные ощущения, возможно, возникают и у властителей, перед которыми все падают ниц, затаив дыхание, завороженные зачарованные магией власти, его власти! Ведь власть, как и успех, тоже опьяняет. А искусство тоже своего рода власть! Дега представляет на полотне свою героиню в полном ощущении ею собственной опьяняющей власти над публикой. Стоит ли это того? Конечно, стоит. Поставьте на мгновение себя на ее место. Публика, охваченная восторгом, готова надо всем тебя вознести, аплодирует, кричит «браво, бис!». Наверное, в эти мгновения кружится голова от дурманящего чувства, которое переводит актера в область ощущений, приводящих в экстаз, вызванный взрывным вбросом организмом эндорфинов. Нам, не возносившимся над толпой и не испытавшим подобные ощущения, это сложно понять. Однако все перечисленное выше в какой-то степени позволяет понять причины того, что творится за кулисами. Дега обозначил ситуацию не только в остром ракурсе, но и в активном движении, в диагональном сечения композиций. А известно, что диагональная композиция – это движение, это энергия.

Э. Дега. Звезда. 1876. Музей Орсе. Париж
Дега не случайно выстроил острую композиционную диагональ и статично расставил фигурки кордебалета. Противопоставление обыденности – это состояние фантастического полного успеха и безоговорочной победы. Даже бархотка на ее шее торжествующе разлетелась в танце. Правда же, впечатляюще изображен успех? Хоть одно мгновение постоять на этой вершине! Помните, как у Высоцкого: «Весь мир на ладони – ты счастлив и нем/И только немного завидуешь тем, /Другим – у которых вершина еще впереди». Что заставляет альпинистов подниматься в горы, рискуя жизнью? Не только адреналин. Но и то, что перед тобой простирается огромное пространство, над которым ты один паришь. Эти же чувства испытывают и дельтапланеристы, и парашютисты, которые на секунду ощущают: я – бог! Глядя на эту картину, проникаясь ее содержанием, можно представить себя на вершине успеха.
«Любители абсента»: выпил – и мир стал фантастическим!
На другой его известной картине «Любители абсента» («Абсент») изображен иной сюжет, другое состояние. На картине изображена пара, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения после выпитого абсента. Это тот самый злосчастный напиток абсент, который, между прочим, был одной из причин, искалечивших судьбу Ван Гога. Он обострил приступы помутнения рассудка у художника. Только позже было обнаружено, что это на самом деле психотропный напиток, который оказывает галлюциногенное воздействие. Впоследствии его стали запрещать во многих странах мира. Но до этого открытия абсент был любимым напитком художников. И в самом деле: выпил – и весь мир сразу обрел фантастические формы!
Стоит задуматься, зачем, помимо психологической предрасположенности, люди пьют и употребляют наркотики? По сути, многие не свободны в силу того, что сознание у них мечется внутри воображаемого замкнутого пространства. Об этом говорил Джалаледдин Руми: «Из всех тюрем – самая страшная та, что построена у тебя в голове». Эта фраза объясняет, почему наши мысли загоняют нас как волков в коридор из красных флажков, они их «перепрыгнуть» не могут, в результате они мечутся в воображаемых «границах». В то время как вообще это наши условные страхи. Мы движемся по жизни, руководствуясь разными опасениями, находясь в плену тревожных переживаний. В то время как алкогольное опьянение создает ощущение раскованности и, как говорят в народе, – «пьяному море по колено». Ты освобожден, все путы сброшены – свободен говорить что хочешь, петь что хочешь, двигаться как и куда хочешь. А в наркотическом состоянии вообще можешь и летать, включая свободное парение, порой, к сожалению, выпадая из окна.

Э. Дега. Любители абсента. 1876. Музей Орсе. Париж
Люди стремятся выпить, чтобы в этот момент почувствовать себя свободными, а значит, счастливыми. Была такая старая неаполитанская песня, безумно популярная в СССР в 1950-е годы. Пели ее многие певцы, конечно же, по-русски, и называлась она «Счастлив я». Там были такие слова:
«Счастлив я! Теперь смеяться можно.
Счастлив я! Мне стала жизнь дороже!
Весел я, весь день пою, друзья!
Забыты слезы, сцены, измены —
Снова свободен я!»
В подобном приподнятом состоянии человек расслабляется, его ничего не сковывает, не угнетает. И, конечно, люди стремятся к полному расслаблению таким способом. Людям творческих профессий пристрастие к алкоголю также помогает снимать эмоциональное напряжение. Порой и им нужно в момент, когда они заходят в кризисный тупик, употребить алкоголь, чтобы стать «свободными» импровизаторами. Однако, как во многих других аспектах, кардинально встает вопрос о мере.
Дега в своей картине изобразил свою любимую модель, прекрасную актрису «Мулен Ружа» Эллен Андре и своего приятеля-художника Марселена Дебутена. После появления этого полотна за ними закрепилась дурная слава: публика сочла Эллен женщиной легкого поведения, а Дебутена – забулдыгой. Такова сила искусства! Итак, персонажи сидят за столом. Перед женщиной, находящейся в совершенно «разобранном» состоянии, стоит зеленоватый абсент. А справа, на столе, мазагран – холодный подслащенный кофейный напиток, использующийся часто во время похмелья. Марселен, уже почти протрезвевший, медленно приходит в себя после опьянения, но не полностью. Похоже, Марселен еще не совсем освоился с реальностью. Похоже, что у него болит голова от выпитого накануне. Глаза красные, лицо немного одутловатое, напряженное.
Позади пары висит зеркало, которое художник определенным образом «режет», в нем отражается, захватывая определенное пространство, кафе «Новые Афины». Как уже говорилось, Дега был любителем кафешантанов. Изображенные на картине столики как бы запирают персонажей. Так Дега подчеркивает, усиливает ощущение некой скованности героев. Энергия композиции просто втискивает их в замкнутое пространство. Линии, которыми пронизана картина, создают напряженный ритм. В результате обстановки выглядит несколько агрессивно. Зрительный клин, – его образует правый стол – упирается в Эллен Андре. Диагонали столов создают связь с верхней частью картины. А все остальное мастер даже не прорабатывает, не обременяя себя тщательной проработкой деталей. Для него важно показать состояние опустошенности и полного безразличия: ее – вялого, отрешенного, а его – несколько сомнамбулического. Несмотря на то что персонажи находятся рядом друг с другом, тем не менее между ними нет зрительно воспринимаемой связи. Каждый находится в своем собственном мире ощущений.
Мастерство Дега заключается в том, что возможно он где-то подсмотрел эту сцену, а уже потом, тщательно продумав, композицию, посадил своих друзей и написал их в таком виде. Эта картина передает состояние опьянения и воссоздает аллюзии подобных ощущений. Как это часто бывает у Дега, полотно насыщено напряженным ритмом – преобладает коричневая гамма, желтые и кремовые оттенки, и ярко выражена динамичная композиция в сочетании со статичным положение фигур. В картине заключена некая история, которая может дать пищу для воображения.
При этом картина, безусловно, очаровательна! При первом рассмотрении мы видим, что сидят двое забулдыг – и что? За этими двумя фигурами – целые судьбы! Конечно, центральная фигура для Дега – опустившаяся женщина. И на полотне она занимает центральное композиционное место. Причем мастер как бы разрезает ее зрительно торчащим клином стола. Так Дега как бы определяет свое отношение к пьющим женщинам. Возможно, тому причиной трепетное отношение к дамам, возможно, что любовь к матери он проецирует на всех женщин. Думается, многие мужчины, воспринимают женщин через свою мать. Через нее формируется отношение ко всем другим представительницам слабого пола, с которыми потом происходят встречи в жизни. Не случайно говорят, что мужчины ищут себе женщин, в чем-то похожих на мать. А женщины – мужчину, похожего на отца. Эти самые первичные и глубокие ощущения закладываются у большинства в систему предпочтений с рождения.
Когда Дега показывает нам в своей картине опустившуюся женщину (а, вероятно, он их видел немало), то как бы провозглашает свой манифест: я не приемлю подобное поведение! Думаю, что мастер определил свою позицию предметно и совершенно однозначно. Опустившийся мужчина рядом с главной героиней служит всего лишь дополнением, подчеркивающим гротескность сюжета.
К чему «пустых похвал ненужный хор»?
На другой картине Дега мы видим его близкую подругу Мэри Кассатт с картами в руках. Как экспрессивно написано, ощущение – словно выхвачен миг из жизни. Фигура наполнена внутренней энергией. Особенно красив фон, на котором написана голова. Казалось бы, несколько небрежно написанный, беспорядочный белый и кремовый фон, но как бесподобно он высвечивает ее лицо! Выразительный портрет. Несмотря на то что она сидит, в ней ощущается внутренняя энергия.
Стоит упомянуть, что Мэри – одна из немногих, кто пришел на похороны Дега. В их числе был и Клод Моне. Мастер завещал, чтобы похороны были скромными и чтобы не говорилось многочисленных речей над могилой. Только Фурнье сказал фразу, которую Дега хотел, чтобы ее произнесли у его гроба: «Он любил рисовать, как и я». Вот все, что он просил сказать. Представляете? Это свидельствует о тонком уме, скромности и мудрости, наконец. Как писал Лермонтов: к чему «пустых похвал ненужный хор».
Bepul matn qismi tugad.