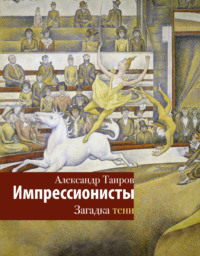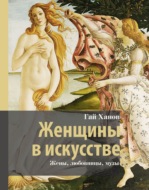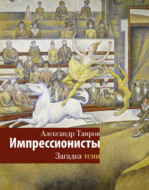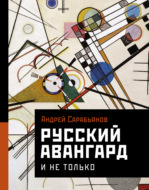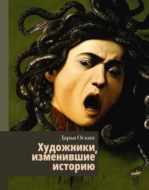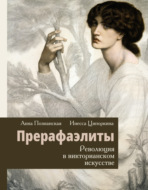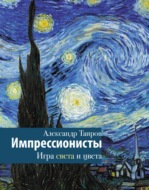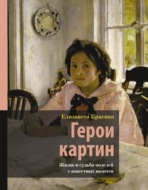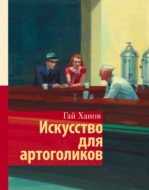Kitobni o'qish: «Импрессионисты. Загадка тени», sahifa 2
Богатство мира, которым мы окружены, помогает нам воспринимать его во всей красоте, многоцветии и многовариантности. И это богатство зримого мира помогает нам понять кино, потому что в этом случае мы смотрим не только на развитие сюжета, который чаще всего захватывает наше внимание, но и на движение, изменения, происходящие в кадре, как это происходит, скажем, в фильмах Тарковского, как это делали многие большие художники кино, когда развитие сюжета предварялось визуальной картинкой, формирующейся еще на стадии раскадровки. Нам, зрителям остается, просто наслаждаться эстетикой видеоряда. Дега – один из тех, чье искусство оказало значительное влияние на мировое киноискусство, мировоззрение режиссеров и художников кино!
Бушующие страсти в кафе «Гербуа»
В 1862 году в Лувре, копируя одну из работ, Эдгар познакомился с Эдуардом Мане. Во многом именно благодаря этой встрече ему удалось пересмотреть свои пристрастия в выборе тем, ибо в то время он не совсем определился с предпочтениями в творчестве, в каком жанре себя выразить. К тому времени он написал одну из первых картин – «Спартанские девушки вызывают на состязания юношей». На картине изображены полуобнаженные девушки и юноши. Банальный сюжет, только трактован не банально, потому что обычно, когда пишут картины на мифологические темы, то изображают античных героев в классических позах. На картине в образе спартанцев обычные парижане – угловатые мальчишки и девчонки. Уже в этой работе стала проявляться самобытность Эдгара Дега. В дальнейшем он не изменял себе, продолжая удивлять любителей искусства оригинальностью своих работ. Как уже упоминалось, встреча с Мане коренным образом повлияла на изменение его отношения к собственному творчеству, изменила содержание и стиль работ.
Дело в том, что в то время всем, что касалось изобразительного искусства, распоряжалась французская Академия изящных искусств, проводившая раз в год Салоны, на которых выставлялись работы художников. Какое значение имели Салоны и каким образом они влияли на развитие искусства Франции? Естественно, художники зарабатывали тем, что продавали свои картины. Но делалось это исключительно в рамках Салона, и очень часто суммы, за которые продавались картины, определялись их успехом в Салоне. Во-вторых, твою картину должны были принять академики, которые считались «небожителями». Естественно, пользуясь своим высоким положением а) они проталкивали свои работы, б) продвигали работы своих учеников, в) договаривались между собой: «Ты принимаешь работы моего ученика, а я одобряю работы твоего ученика». Так было заведено. Поэтому многие талантливые художники, а их в Париже было немало, порой, просто не попадали в Салон.
В итоге страдало качество живописи, которое господствовало в Салонах – ведь принимались туда только регламентированные сюжеты на исторические, библейские и мифологические темы. Чаще всего то, что было изображено на картинах, выставленных в Салоне, носило повествовательный характер. Такое положение дел уже не устраивало молодых бунтарей. А после появления японской гравюры, свежего ветра, который подул в паруса молодого поколения, естественно, с неизбежностью возникло некое противостояние. Ведь играло роль еще то обстоятельство, что если работу даже и примут в Салон, то не было никаких гарантий, что она получит признание. Было важно, как и где она будет расположена. Ее могли повесить в такой угол, что ее никто и не увидит. Где она будет висеть – высоко ли, низко ли, загнана ли на периферию, – определялось не только академиками, но и самими смотрителями, которые монтировали выставку. У голландского художника Йонгкинда, например, произошла однажды такая история: он написал работу, покупатель уже согласился ее купить, однако его картину в Салон не взяли – в результате сделка была аннулирована. Можно представить, насколько все зависело от Салона!

Э. Дега. Спартанские девушки вызывают на состязания юношей.
1860–1862. Институт Варбурга и Курто. Лондон
Молодые художники во главе с Мане, которых, как мы помним, потом все называли «банда Мане» или «батиньольцами», собирались на улице Батиньоль в кафе «Гербуа», где спорили до изнеможения. Тон в этих обсуждениях задавали Эдуард Мане, Эдгар Дега и Фредерик Базиль. И вот по какой причине. Дело в том, что все трое были из обеспеченных семей, соответственно, они получили прекрасное образование, что позволяло им поддерживать высокоинтеллектуальные разговоры об искусстве и задавать таким образом тон в различных спорах. Сестра Дега рассказывала, что ее брат Эдгар был «бесконечно образован», знал несколько языков, свободно читал по-гречески, по-латыни и был чрезвычайно начитан. Можно представить, каким объемом знаний он обладал в сравнении с теми, кто не был столь образован!
Когда эти три интеллектуала приходили в кафе, то возникали разговоры о высоких материях, и разумеется, об искусстве. К примеру, Сезанн, который иногда заглядывал на эти сборища, как правило, забивался в угол и только слушал. А если ему что-то не нравилось, молча уходил. Чаще всего так же пассивно вели себя Клод Моне и Ренуар. Жаркие дискуссии так или иначе привлекали представителей лучших творческих сил Парижа. Там появлялись Золя, Бодлер, Малларме и многие другие. Можно вообразить, какая кипучая была среда, где происходил бурный обмен мнениями, кипели бушующие страсти. И то сказать, для полноценной жизни искусства необходим такой конгломерат, где происходит взаимный обмен впечатлениями, мнениями, где поэты воспевают художников, и все это вместе порождает мощный энергетический импульс, дающий начало развитию новых веяний в искусстве.
Естественно, жизнь в Париже и не могла быть другой. Там происходило мощное брожение, в результате которого создавалось этакое прекрасное здание искусства той поры, которое, как пылесос, втягивало таланты со всего мира. В Париж ехали американцы, англичане, испанцы, голландцы, немцы, кого там только не было… Приезжали Уистлер, Ван Гог, Гоген… Все стремились во французскую столицу, потому что там зарождалось все новое, там заваривался бульон, из которого потом получилось то острое блюдо, которое мы до сих пор дегустируем, пытаясь ощутить, понять смысл, значение, остроту специй, которые туда добавили те или иные творцы.
К примеру, кем был бы Ван Гог, не попади он в Париж в свое время? Его палитра, как мы помним, была полна сдержанных тонов, довольно приглушенная, сообразная голландскому климату и ландшафту. Впрочем, Голландия дала миру целую плеяду замечательных художников, в том и числе и прекрасных живописцев. Достаточно помянуть Ван Эйка, Брейгеля, Вермеера, Рембрандта с его неподражаемым колоритом. Однако вернемся к нашей теме. Создались даже своеобразные связки: «Мане – Дега», «Моне – Ренуар, Писсарро». Кстати, последний, прежде чем остаться навсегда, дважды приезжал в Париж из Коста-Рики. В последний приезд остался в нем, чтобы «вариться» в этом необыкновенном творческом «бульоне». Именно в это время в Париже начала возникать и формироваться среда, оказавшая огромное влияние на последующие этапы развития изобразительного искусства. Все стремились в этот город, потому что там возникали самые новаторские тенденции в изобразительном искусстве и только. Подобно тому, как ранее, в эпоху Возрождения, и несколько позднее все стремились в Италию, такой же процесс начался и во Франции во второй половине девятнадцатого века.
Чарующая сила портрета семьи Беллелли
Это время серьезно повлияло на Дега – он стал работать в совершенно ином направлении. Палитра его осветлилась. До этого у него был переизбыток темных оттенков в работах. Одним из ярких примеров такого рода является портрет семьи Беллелли («Семья Беллелли», (Семейный портрет)) его итальянских родственников. На картине изображена чета Белелли, Джакомо и Лаура, и двое их детей. Этот портрет является одним из шедевров, попытаемся понять почему. При внимательном рассмотрении в нем ощущается некая чарующая сила. Уже тогда Дега начал работать на контрастах, полный смысл которых мы поймем, когда будем говорить о работах его балетного цикла. Позже этот прием он будет использовать в своих последующих работах.

Э. Дега. Семья Беллелли (Семейный портрет). 1867. Музей Орсе. Париж
Дега применил интересный подход в изображении семейной сцены. Недалеко от мужа стоит беременная жена с отсутствующим взглядом, объединяет их только наличие детей, ведущих себя достаточно непосредственно. Например, одна девочка села, поджав ногу под себя. Как уже говорилось выше, в то время художники специально выстраивали композицию, заставляя модели располагаться должным образом, фиксируя положение тел. А для Дега уже тогда был непреложным принцип: он изображает модель в ее естественном состоянии. Также натурально художник передает состояние мужа: как только супруга зашла в комнату с детьми, он оторвался от своих дел, чтобы посмотреть в сторону вошедших. Хотя ничего особенного он до этого визита не делал, сидел перед камином, предаваясь своим мыслям, проводя время в праздности. И вот зашла супруга – раздражающая, и даже, возможно, ему давно ставшая чужой. Ощущается напряжение в воздухе – все исчерпано, все в прошлом, все восторги прошли и чувства остыли, и на смену им пришла привычка, рутинность семейной жизни, когда каждый день похож на предыдущий, день за днем происходит одно и то же.
Единственное теплое чувство, которое связывает их, – это дети. Вот они – чистые, непорочные, ни о чем не догадывающиеся, ни о чем не подозревающие, ведущие себя непринужденно. Одна обратилась к отцу. И он повернул к ней голову. Другая смотрит в пространство, предаваясь своим размышлениям. Центром композиции является белый фартучек на ней, который притягивает взгляд. А муж и жена выглядят как второстепенные персонажи. Здесь главное – дети, иными словами, главное – будущее.
Обратимся на минуту к собственному восприятию. Мы все время живем как бы ожиданием будущего, своих чаяний, потому что прошлое отходит на задний план и как бы перестает существовать. Но, с другой стороны, оно важно, потому что, только опираясь на него, можно произвести какую-то переоценку ценностей. По сути, мы всегда стоим одной ногой в будущем. Так Дега в картине демонстрирует контраст: то, что по отношению ко всему выглядит приглушенно, – это в прошлом, а то, что ярко – это дети, которые стремятся в будущее. Стоит обратить внимание читателя на то, что нам самим предстоит стараться выстраивать некую фабулу картины. Вплоть до того, что можем сконструировать в своем воображении некое будущее: отношения между повзрослевшими детьми и старшим поколением, тогда, когда они станут более независимыми и их ничего не будет связывать со старшими, когда невольно будет возникать вопрос: с кем из родителей у них будут более нежные и теплые отношения?
Но, как говорилось выше, если мать является центром притяжения, поэтому можно предположить, что дети будут более близки с матерью, в то же время – и это видно – отец нежно относится к дочерям. По тому, как изображены фигуры, видно, что она их держит при себе, они обе как бы в большей степени принадлежат ей, хотя в то же время одна из дочерей тянется к отцу. Так мастер сюжетно и композиционно дал нам ключ к пониманию того, каким образом мы должны рассматривать те взаимоотношения, а, возможно, и скрытую драму, которые заложены в его произведении. Если начать рассуждать и погружаться в состояние персонажей, можно обнаружить, что картина исполнена смыслов, в результате обнаружения которых у зрителя рождается ответный отклик. Возникает желание понять, что скрывается внутри сюжета на полотне, вплоть до воссоздания диалога, который мог бы там происходить. Можно вообразить даже маленький сценарий, в котором будет заложена предпосылка для личностного переживания этой сцены.
То, что удалось изобразить Дега, впечатляюще! Серовато-голубоватый фон, игра цвета, контраст коричневатых оттенков и конкретно черного (отчуждённо-неподвижной фигуры), статуарного состояния, стоящей гордо с непреклонным видом матери. Наверное, она не прощает мужа? За что? Вероятно, есть некая цепь событий, в результате которых произошло отчуждение. Отсюда в очередной раз возникает необходимость восприятия картины не столько в иллюстративном её характере, сколько в сложном психологическом взаимодействии персонажей, которое заложено художником в картине.
Однако при этом Дега не был глубоким психологом в создании портретов. Он был прекрасным интерпретатором в изображении сюжетов. В картине одним из свидетельств этого является искусно переданное им ощущение движения. Есть ряд признаков движения в фигуре отца, дочери и противостоящая им очевидная незыблемость фигуры матери, по всей вероятности, выражающая непреклонность. Она как будто не участвует в этой игре, вынужденно находясь в этой ситуации. Однако же сколько можно сказать об одной картине, на которой изображены на первый взгляд неподвижные фигуры.
Это одно из творений Дега, созданных на первом этапе его творчества. Тогда, находясь в Италии, он написал большое число портретов своих родственников, в том числе и эту картину. В ту пору он был еще молодым человеком, эта работа – свидетельство скрытого потенциала, который раскроется в полной мере на определенном этапе его жизни.
Планирование «схваченного мгновения»
Когда Дега познакомился с Мане, он стал писать в иной манере, в ином ключе: его палитра посветлела, стала красочной. Было еще одно обстоятельство, также повлиявшее на жизнь мастера. Команда художников, которая объединялась под эгидой Мане, просуществовала недолго. Эдуард обладал удивительным свойством: он был весьма деликатным и умел сглаживать многие шероховатости. Причем нельзя сказать, чтобы он был по натуре таким. Пожалуй, это обуславливалось его хорошим образованием и прекрасным воспитанием, что впоследствии позволило сохранить нормальные отношения с членами распавшейся команды. Дуэт Дега – Мане некоторое время был лидерским. Однако, в сущности, Дега не был импрессионистом в подлинном смысле этого термина. Более того, ему был чужд пленэрный вид творчества.
Ему было не свойственно, как предположим, Клоду Моне, запечатлевать ускользающий миг. Свои картины он тщательно обдумывал, и они представлялись уже таким образом, что воспринимались как запечатленное мгновение. На самом деле это глубоко продуманный и даже сконструированный ход. Но при этом от виртуозности, с которой Дега это делает, у нас возникает ощущение, что он выхватил какой-то момент, подсмотрел и запечатлел. Не правда ли? Ощущение «схваченного мгновения» касается всех работ, о которых мы будем говорить.
…Летом 1870 года Пруссия напала на Францию, и Дега, будучи патриотом, записался добровольцем. Его сначала взяли в пехоту, но из-за плохого зрения перевели в артиллерию. Это обстоятельство в значительной мере повлияло на его судьбу. Дело в том, что на войне он повредил зрение, и это стало причиной того, что в последние годы жизни вообще ослеп, к слову сказать, как и Клод Моне на склоне лет. Когда впоследствии у Эдгара ослабло зрение, он занялся, как ни странно, скульптурой. Начал лепить фигурки балерин, людей, всадников. После его смерти нашли 150 вылепленных из воска фигурок. И 74 были отлиты в бронзе. Сейчас их можно увидеть в разных музеях мира… Стоит упомянуть, что во Франко-прусской войне погиб подававший блестящие надежды молодой импрессионист Базиль, который тоже пошел на фронт добровольцем. К слову сказать, это был симпатичный, обаятельный и высокообразованный молодой человек. Остается сожалеть, что так рано оборвался его творческий путь.
Позже Дега был вынужден уехать в Америку из-за того, что к власти пришла Парижская коммуна – революционное правительство Парижа времён событий 1871 года. Оно возникло после заключения перемирия с Пруссией во время Франко-прусской войны в Париже, где начались волнения, вылившиеся в революцию. От уличных беспорядков и стрельбы Эдгар вместе с братом Рене уехал в Новый Орлеан к родственникам по материнской линии. Там он написал картину «Хлопковая контора в Нью-Орлеане». Картина представляет собой многофигурную композицию: на первом плане сидит его дядя Мишель теребящий пучок хлопка и оценивающий его качество, его брат Рене, читающий газету, а вдали, в углу, опершись на стену, стоит другой его брат, Ахилл. Что же в картине такого интересного и существенного? По какой причине ее купили в музей еще при жизни художника?
Мы видим здесь две праздные фигуры его братьев. Они были успешными виноторговцами, продавали в Америку французские вина и, судя по всему, не имели непосредственного отношения к происходящему в конторе. Остальные персонажи картины работают. Строение композиции полотна определяется ритмом стоящих фигур. Черные фигуры перемежаются с коричневыми и стоящей на переднем плане фигурой в жилете. Изменение ритма происходит по нарастающей, из глубины, где наблюдается лихорадочная деятельность конторы. Кроме перечисленных участников, на полотне – две праздные фигуры его братьев, которые, однако, не меняют структуры произведения. Гамма, в которой выполнена картина: оттенки коричневого и черного, контрастные отношения белого хлопка, белого рукава, и создает нарастание ритма справа налево. Пересчет этих фигур идет на равных удалениях, включая коричневый сюртук сидящего брата, откинувшегося в праздной позе на первом плане, и венчающего картину его дяди Мишеля.
Как уже говорилось, Дега всегда интересовало движение, и оно присутствует в этой картине подчеркнутое наличием ряда композиционных приемов. Например, сокращение вниз стеклянной перегородки, согласно чему она перетекает обратно в структуру от двух взаимно встречных потоков, создавая визуальное напряжение левее оси композиции, где персонажи перебирают хлопок. Очевидно, идет обсуждение качества товара, происходит торговля, видно, что идет деловой процесс. Причем нужно заметить, что никто до Дега не писал картины на тему производственных процессов или конторского бизнеса. Это одна из первых подобных картин. Здесь, собственно говоря, идет фиксация одного из эпизодов повседневной деятельности деловой конторы.

Э. Дега. Хлопковая контора в Новом Орлеане. 1873. Музей изящных искусств По. Пау
Удивительно, как Дега это сумел сделать? Когда он находился в Новом Орлеане, то для себя решил: чтобы писать и жить в Америке, нужно ее хорошо знать. А поскольку он ее не чувствует и не понимает, то ему нет смысла оставаться в США. Он не видел для себя возможным восприятие чужого образа жизни. В результате поездка за океан ограничилась всего лишь одной картиной с изображением нескольких родственников.
Выставка, на которую приходили посмеяться
Когда Дега вернулся в Париж, то сразу окунулся в богемную жизнь. В то время началась подготовка к первой выставке импрессионистов. Поскольку в свое время все «бунтари» Салоном были отвергнуты, то у Дега возникло некое противоречие с Эдуардом Мане, считавшего, что главное – продолжать выставляться в Салоне. До этого они часто писали друг друга и свои семьи. На одной из картин Дега изобразил жену Мане – миловидную голландку, пианистку, играющую на рояле, и самого Мане, слушающего ее игру. Но Мане так категорически не понравилась та часть, где изображена его супруга, что он взял, отрезал ее и отдал Дега. Тот, обидевшись, соответственно вернул Мане картину, где тот изобразил его семью. На этой почве у них возник разлад. Правда, потом они в итоге всё-таки помирились. Но конфликт все же повлиял на их дальнейшие взаимоотношения. Мане, несмотря на то, что возглавлял импрессионистов, себя-то импрессионистом не считал. Однако по-прежнему группу художников, сплотившихся вокруг него, все продолжали называть «бандой Мане». Справедливости ради нужно признать, что Мане задал решающий импульс этому творческому движению своим дерзким вызовом Академии и Салону своими картинами.
Во впечатляющих произведениях Мане – необычная манера, жизнерадостный колорит, необычно вызывающий характер сюжета. Он произвел настоящий фурор, эпатировав публику своей необыкновенной «Олимпией» и «Завтраком на траве». Скандал вокруг этих полотен послужил причиной, по которой вокруг него объединились буквально все молодые художники, выдвинув его в качестве вожака. И он оправдал их надежды, потому что инициировал их первую выставку, правда, при этом наотрез отказавшись участвовать в ней. Было важным, чтобы эта выставка не сорвалась, и поэтому Дега проявил значительные усилия по привлечению друзей для ее организации. В итоге собрали около 100 работ. Позже экспозиция стала причиной скандала.
Люди потянулись на эту выставку. В популярном журнале «Шари вари» появилась статья Луи Леруа, который описывал свой поход туда с неким Виктором. Когда, например, увидели творения Сезанна, то обсуждение картины вылилось примерно в следующий саркастичный диалог: «Какая же это капуста? Пускай сам Сезанн ест такую капусту!» А когда увидели «Бульвар Капуцинок» в исполнении Моне, то Виктор спрашивал у Леруа: «А вот эти всякие мазки, которым обычно наносят рисунок мрамора, это что – человечки? Неужели и я так могу быть изображен? Ха-ха-ха! Это не похоже на живопись!» И перед картиной «Впечатление. Восход солнца» Моне снова поехидничали: «Там ничего ни на что не похоже!» В результате обозвали всех художников этой выставки «впечатлистами». Откуда и пошло название «импрессионизм» – «impression» (впечатление). Кстати, сам Луи Леруа остался в истории мирового искусства лишь благодаря тому, что написал эту хлесткую, едкую, издевательскую статью об импрессионистах.
В общем, молодые художники привлекли большое число зрителей. Но зачем они туда приходили? Можно подумать, они хотели осмыслить своеобразие нового течения? Отнюдь! Они приходили туда посмеяться! Тыкали в картины пальцем и хохотали. Специально приходили компаниями, чтобы поиздеваться и посмеяться над каждым произведением. Зрители шли туда на скандал. Тем не менее начало было положено.
Несмотря на то что Дега вошел в объединение импрессионистов, тем не менее он продолжал участвовать в выставках Салона, стремясь получить признание. Например, там был выставлен один из его первых прекрасных скульптурных портретов пожилой римлянки. Выполнен он мастерски – в колорите, с подчеркнутым выразительными силуэтом и тонко переданным характером. Это одно из ярких и из известнейших его произведений. В дальнейшем все его творчество послужило отражением его пристрастий.
Одним из них была любовь к балету – он был завсегдатаем спектаклей. Поначалу он наблюдал за происходящим только из зрительного зала. Для того, чтобы писать балерин, приглашал их к себе в мастерскую. Но, после того как познакомился с фаготистом Дезире Дио, изображенным на картине «Оркестр оперы», он получил доступ за кулисы театра. И дальше он посещал все премьеры; для него не было запретных мест, которые он бы не мог посетить в театре. Дега с жадным любопытством подсматривал, выхватывал увиденные сценки, которые потом запечатлевал на полотнах. Интересно, что до него писали балет, но в идеализированном варианте, где персонажи выглядели несколько возвышенно, о чем уже упоминалось. Дега создавал на своих полотнах сцены, которые не касались парадных сторон творчества. Его интересовало, что происходило за кулисами, за пределами сцены.
В чем прелесть «Оркестра оперы»?
Попытаемся понять структуру работы «Оркестр оперы». В чем прелесть и выразительные особенности этого произведения? Дега вновь работает на контрастах. Какое изысканное сочетание черных и белых оттенков! На первом плане хорошо переданы выражения лиц играющих. Обращает на себя внимание, как он передал характерное движение губ при игре на духовых инструментах. Эдгар был весьма наблюдательным человеком. Он заметил, что фаготисты в отличие от трубачей совершенно по-особому складывают губы во время игры на инструменте. Фаготист как бы слегка вдувает воздух в тонкую трубку, сжав губы в трубочку – видно характерное раздувание щек. Художник точно изобразил эту своеобразную мимику! Дезире Дио играет именно на фаготе, а не на каком-то ином духовом инструменте. Художник мог бы просто изобразить напряженные губы, но это было бы не столь естественно. Его друг, которого он «поместил» на первый план, передан в момент игры на фаготе в составе оркестра, остальные оркестранты расположены в глубине картины.

Э. Дега. Оркестр оперы. 1867. Музей Орсе. Париж
На что еще стоит обратить внимание? Дега обрезал фигуры персонажей картины довольно смело и решительно. В этой картине главное – оркестр, балерины представлены в качестве фона. Как же он достигает внутреннего напряжения на полотне в момент исполнения музыкальности произведения? Характерно, что движения смычков почти все параллельны, и представляют собой тот каркас произведения, на котором оно держится. Если убрать все фигуры, то обнаружится, что полотно испещрено сеткой линий, которые связываются в общую паутину связей. То же самое можно сказать о фаготе. Его линия сопрягается с линией пюпитра, флейты и с линией ноги одной из балерин и некоторых смычков, как итог образуется единый каркас. Таким образом, оно насыщается сложными ритмами, в результате чего мастер достигает органичной внутренних композиционных связей в произведении. Все вместе создает единую универсальную решетку, которая сцепляет всю композицию, делает произведение его цельным и напряженным. Когда становятся видимыми эти связи, то картина обретает звучание и в воображении слышится музыка.
Досужему наблюдателю такие особенности не сразу видны. Но как только это удается обнаружить, становится очевидным, что это произведение музыкально не только по своему названию, оно музыкально и по своей сути, по структуре. Внимательное изучение сюжета позволяет понять, что именно важно для художника в картине? Глядя на надутые определенным образом щеки фаготиста, можно обнаружить осязаемое движение – он действительно играет! Мы слышим, да, он играет, мы отчетливо понимаем, что он действительно играет. Причем именно на фаготе, а не на флейте и не на трубе. Художник изучил характер мимики при игре на этом инструменте и точно его изобразил. Все изображено неформально. Например, в картине высвечены контрасты белых рубашек, светлых пачек балерин, вспышек белого, распределенных по пространству полотна, придающих ему большую выразительность. Как итог, произведение насыщается симфонизмом, наполняется пульсирующей энергией.
Когда порой невозможно себе объяснить, чем же так привлекает нас то или иное произведение искусства, нужно попытаться, опираясь на подходы, которые обсуждалось выше, понять, смысл композиционных связей, живописные приемы, придающие стройность и цельность сюжету, в результате чего встроенные ритмы с неизбежностью рождают звучание музыки в воображении. Недаром всегда, когда обсуждаются произведения изобразительного искусства, говорится о внутренней музыке произведения. Как говорили древние, музыка – математика в звуках, а картина, как и архитектура, – это застывшая музыка. Поэтому вполне допустимо утверждение, что можно вообразить, как звучит музыка картины.
Конструкция ритмов и сюжетов
Пристрастие художника к балету вылилось в целый ряд картин с изображениями разнообразных балетных сюжетов. Обращает на себя внимание картина «Танцевальный класс». На полотне запечатлен момент паузы в занятиях. Стоит авторитетный, старый педагог, мнение которого, очевидно, очень ценно для всех присутствующих, – за плечами у него огромный опыт, умение видеть тончайшие элементы в танце, неточности в движениях танцовщиц. Во время прерванной репетиции ученицы возвращаются в поток своих ощущений и переживаний. На первом плане девушка что-то поправляет в своем костюме, в эту минуту она полностью поглощена своим занятием и ей невдомек, что происходит в классе. В большом зеркале отражается как бы другое пространство, недоступное зрителю. Там есть окно, о котором можно только догадываться. За счет добавления определенных деталей Мастер добивается напряженности сюжета и вмещает в ограниченный размер картины достаточно большое пространство класса.
Попробуем осмыслить композиционную и ритмическую картину, содержащуюся в произведении, которая улавливается не сразу. Обратим внимание на вертикали: палка в руках учителя, дальний угол, стойка пюпитра. Дега «выстраивает» пачки: раз, два, три, четыре – все они в определенной последовательности, завершающий заданный ритмический переход. Художник разговаривает со зрителями картины своеобразным языком, воздействуя на них с помощью определенных композиционных приемов. В результате создается органичный переход одних форм в другие. В картине все наполнено внутренними связями. Учитель как бы задает некое своеобразное построение в пространстве. Все остальное находится в движении, живя вместе с тем какой-то своей отдельной жизнью. В данный момент учитель не управляет происходящим процессом, так как, расслабившись на время перерыва, все персонажи живут автономно. Многим приходилось наблюдать, что во время того, как прерывается какое-то организованное действие, все моментально распадается, и каждый элемент, казалось бы, стройной системы начинает жить своей жизнью. Особенно такое поведение характерно для музыкантов, когда они перестают исполнять произведение и каждый начинает наигрывать, следуя своему произволу, фантазиям, на инструменте свои пассажи. В танцевальном классе происходит нечто подобное. Одна танцовщица что-то поправляет, вторая о чем-то задумалась, глядя вдаль, третья продолжает разучивать па…

Э. Дега. Танцевальный класс. 1874. Музей Орсе. Париж
Следует обратить внимание на органично выстроенные движения рук, складывающихся в стройный рисунок, согласованный в каждом движении, что еще раз подтверждает факт: Дега тщательно продумывал картину, создавая ее действительно как конструкцию. Но она – конструкция – производит эмоциональное воздействие, не оставляя нас равнодушными. Мы реагируем на красные вставки, похожие на алые вспышки. Не случайно педагог облачен в красную рубашку, которая поддерживается красной накидкой и красными бантами. Они создают ощущение праздника, ожидания какого-то необыкновенного события, которым живут балерины, собравшиеся в классе. Не случайно яркое сочетание красного с голубым бантом создано для контраста. И не просто так изображены сидящие и наблюдающие родственницы учениц – вся картина наполняется внутренними диалогами, шорохами, постукиваниями. Происходящее на полотне может, таким образом, рассказать об атмосфере, царившей в танцевальном зале. А учитель – многое повидавший – просто стоит и наблюдает за всей происходящей суетой до того момента, пока не настанет время продолжить репетицию, тогда он прикрикнет или властно стукнет палкой об пол, призывая всех к порядку.