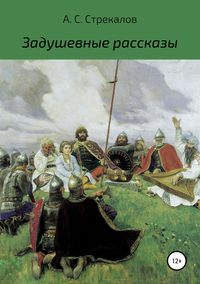Kitobni o'qish: «Задушевные рассказы»
От автора
«Задушевные рассказы» – мои первые литературные опыты, выросшие из острых душевных переживаний, можно сказать – подсказанные и окроплённые ими, оставившие зарубки на сердце; переживаний, которые я и запечатлел на бумаге по горячим следам в конце 1980-х годов, в 30-летнем возрасте… Всего тех рассказов я написал с десяток, наверное, собственноручно напечатал их на машинке «Любава» (случайно купленной на Большой Дмитровке) и переплёл. И до сих пор храню… А потом, святая простота, бегал с ними по редакциям столичных журналов, начиная от элитарного «Нового мира» и кончая якобы либеральной «Юностью», намереваясь напечатанное опубликовать. Тогда я ещё искренне верил: чудаком был ужасным, непрошибаемым, – что в Большую литературу можно войти самостоятельно и с парадного входа, минуя «подворотни», «подвалы» и «чердаки», унижение, постели с выпивками и кривляние. Как и лизание задниц сильным мира сего, «литературным генералам» так называемым, или «гениям» – если попроще, кто и вершили, и вершат до сих пор в России все редакторско-издательские дела.
Увы, тогда я сильно ошибся, получив везде «от ворот поворот». Теперь-то понимаю, что абсолютно справедливо и правильно: те мои первые пробы пера были и вправду слабенькими (что, однако ж, не поменяло моего негативного отношения к литературным руководителям вообще – и советским, крайне заидеологизированным, и нынешним, демократическим, якобы свободным). Выбрав из них три рассказа, за которые мне до сих пор не стыдно, я и опубликовал их на ЛитРесе в 2017 году, любезно предоставившему мне, никому не известному автору, свои интернет-ресурсы. За что руководству редакции низкий поклон и тысячи благодарностей.
«В день ненастный, час гнетучий
Грудь подымет вздох могучий;
Вольной песнью разольётся:
Скорбь-невзгода распоётся!»
Е. Баратынский
Гримасы Судьбы
Все проблемы его начались с трёх с половиной лет, когда он, крепенький и румяненький карапуз, оставленный дома один, заигрался и свалился с печки, с двухметровой её высоты, не такой уж страшной и опасной вроде бы. Голова, спина и руки при этом не пострадали, слава Богу, но при падении маленький Вася сильно ударился об угол скамейки крестцом. После чего у него почти сразу же отнялись и пересохли ноги, сделавшиеся непослушными и неуправляемыми как надломленные бурей ветки, будто бы отделившимися изнутри от остального тела и существовавшими уже как бы сами по себе, автономно и независимо, одиноко и сиротливо.
Что там такое с несчастным мальчиком произошло в физиологическом плане? и можно ли было этот тяжёлый недуг по горячим следам вылечить и исправить? – теперь уже невозможно определить. Как невозможно было сделать этого и тогда, по горячим следам, из-за недостатка денег и времени. Ведь случилась трагедия, поясним, в первой половине 1930-х годов в глухой забытой Богом деревне Центральной России в семидесяти километрах от Тамбова, в нищей крестьянской семье, в разгар коллективизации к тому же. Родителей Васи загнали в колхоз и заставили там ишачить сутками без продыха и выходных – на горбу вытягивать-выполнять вместе со всеми первый советский пятилетний план по выводу обожжённой и ограбленной Революцией и Гражданской войной страны из экономической трясины, тотальной нищеты и разрухи, спасать горожан от голода. Лишнего времени тогда не было ни у кого. Детки росли бесхозными, почти-что сиротами… Кому из них везло – тот выживал и становился полноценным и крепким, к самостоятельной жизни полностью приспособленным. С кем же по недосмотру случалась беда – помирали быстро, либо становились калеками.
Васятке не повезло: он упал и убился, спину больно зашиб. И весь день провалялся под лавкой, скрюченный, в ожидании помощи. Вернувшиеся под вечер с работы отец и мать, увидев посиневшую и распухшую от удара поясницу младшего сына и его самого, бледного и перепуганного, на полу жалобно стонущего, лишь всплеснули руками и заплакали-запричитали дружно. После чего, спохватившись, подняли продрогшего кроху на руки, расцеловали, перевязали и накормили, бережно уложили спать. А потом перекрестились на образок и обречённо понадеялись оба, что всё у того обойдётся в итоге и заживёт: отпустит болезнь онемевшие и одеревеневшие ножки…
Но болезнь не ушла, не отпустила Васятку: ежевечерние истовые молитвы и горькие слёзы родительские не помогли избежать беды, или хотя бы ослабить недуг ребёнка. Ушибленные ноги его с того трагического момента так себе плетьми и висели на теле, и признаков жизни не подавали. Совсем. Тело мальчика принялось жить, расти и развиваться как бы само по себе, нормально, здорово и правильно. А ноги будто бы замерли и остановились в развитии, уродуя внешне парня и одновременно напрягая и мучая его изнутри, озорного и подвижного от природы, всю дорогу рвавшегося прыгать-скакать и резвиться вместе с другими, везде лазить, мешаться, бегать наперегонки. А тут его вроде как спеленали-стреножили лихие люди – и не торопились освобождать, вроде как про него забыли.
Больные ножки, крепко привязавшие Васю к дому, лавке, двору и крыльцу, всё больше и больше отделяли и отдаляли его от ровесников, от двух здоровых братьев в первую очередь, делали муторной жизнь и его самого, и его ближайшего окружения. В семье все как-то вдруг быстро поняли, что их младший сын и брат – инвалид. И придётся теперь с этим пренеприятным фактом считаться, тащить его, убившегося, на себе, всегда держать рядом и не отпускать, помогать ему выжить и уцелеть в этом холодном и злобном мире.
Поначалу так оно всё и было: семья опекала и лелеяла хромоногого Васю как могла, максимально избавляла его от проблем и неудобств ежедневных, житейских. И пока родители были рядом, а два старшие брата и сестра не выросли и не окрепли ещё, не выпорхнули из родного гнезда – Васятка настоящего горя и слёз не знал: семья от них его старательно ограждала.
Но в 1941-м году, в августе, убили на фронте отца (пропал без вести по похоронке), и жизнь 11-летнего мальчика поменялась круто. У рано овдовевшей и насмерть перепуганной и придавленной жизнью матери на него уже не хватало сил, чтобы с Васяткой как раньше персонально нянчиться. Ему приходилось уже самому учиться жить, обслуживать себя, недоделанного, за себя бороться…
Но и это ещё не было самым страшным – пропажа кормильца-отца. Настоящие беды его начались с тех пор, когда подросшие и возмужавшие браться во второй половине 1950-х принялись один за другим жениться и уходить из родного дома, вить себе гнёзда на стороне, заводить собственных ребятишек, которые им обоим становились уже дороже и ближе естественно, и родней, чем хромоногий младший братишка. Вечно ноющий и капризный, неудельный какой-то, невзрачный, неполноценный, привязчивый и несамостоятельный, он становился обузой и элементарно им надоел. Поэтому-то помогать и поддерживать его как раньше они уже не спешили, стремглав не бросались на выручку: и желание убавлялось с годами, братские чувства, и не доходили руки.
А уж когда и сестрёнка старшая, любимая, вышла замуж и на жительство к мужу ушла, и у неё один за другим стали появляться дети, мальчик и девочка, из-за которых она про брата-калеку забыла почти, уделяя всё время и силы грудничкам-малюткам, – тут уж Василию жить и терпеть мытарства стало совсем невмочь. Психологически – в первую очередь. Он отчётливо понимал, что далее горе мыкать придётся ему одному, на пару со старенькой матерью. И что одиночество это его, скорее всего, пожизненное.
От одной только этой мысли он, уродливый хромоногий изгой, кроме матушки никому не нужный и не интересный, даже и родственникам, принялся ежедневно пить, глушить самогонкой чёрные мысли-переживания, что неотступно следовали за ним по пятам и сулили Василию в недалёком будущем нешуточные проблемы, с реальным голодом связанные, мучительной смертью. Убитая горем мать видела, что с сыном творится неладное, понимала, что его надо срочно спасать, пристраивать в дело – женить понимай, как других, пока он совсем не спился и не загнулся под лавкой. Но на ком женить? – сразу же вставал вопрос. Кто захочет пойти за такого уродца?…
От подруги на ферме она узнала по случаю, что в соседнем селе живёт-поживает с родителями и также вот горе мыкает одинокая Анна, старая 40-летняя дева, не могущая никак выйти замуж по какой-то причине, которая была старше Василия аж на 15 лет. Многовато, конечно же, перебор, “товар просроченный, залежалый”, как говорится, – но куда было деваться-то? Уж лучше с такою “кошёлкой трухлявой” соединиться, образовать союз, чем совсем одному куковать, в обнимку с бутылкой…
Подумали-подумали, повздыхали-поохали старшие братья с матерью, прикинули в голове все выгоды и потраты – и послали к девке сватов, сговорились, привезли её на смотрины. И получилось, что и она категорически не понравилась Василию в тот свой первый приезд: старая была больно, страшная и носатая как цапля, бедно одетая, – и он ей – тоже. Хотя и был виден собой, сидючи за столом-то, с руками, ногами как говорится, какой-никакой, а мужик. Но ноги-то у него были уж больно странные – тонкие и кривые, слабенькие, ненастоящие будто бы, ненатуральные, которые уже и тогда, в 25 лет, еле-еле удерживали в равновесии худое тело его, заставляли переваливаться с боку на бок при каждом новом шаге словно пингвину, сильно потеть, а передвигаться с палкою…
В общем, целых полгода после свидания думали-гадали оба, переваривали обоюдную неприязнь в душе, расстройства сильные и брезгливость. После чего сквозь зубы объявили родителям, что жениться согласны: давайте готовьтесь, мол… Родители обрадовались, перекрестились, сыграли скромную свадьбу, чтобы не смешить людей. После чего молодые стали жить в доме у Васиной матери, которая здорово им помогала на первых порах: всё хотела молодой угодить, по возможности заменить в их семье инвалида-сына; чтобы семья не распалась в первый же месяц, не убежала жена от Васятки.
Ей это удалось – поневоле возникший союз сберечь. И через два года у молодых родился парнишка. Как ни странно покажется – крепенький и здоровый, хороший собой. Не в родителей убогих и страшненьких пошёл парень: похоже, от дедов и прадедов здоровье и красоту урвал, чтобы передать её по наследству, когда подойдёт срок, уже собственным ребятишкам…
А приблизительно в это же время старший брат Василия, Михаил, обосновавшийся в райцентре после службы в армии, работавший инструктором в местном горисполкоме, заведении элитном и значимом, достаточно властном в ту пору, стал перетаскивать туда, в райцентр, и родню – чтобы повеселее в городе было им и ему жить, полегче и понадёжнее большим коллективом. Сначала помог перебраться из деревни в город среднему брату Виктору; потом – сестре Татьяне. А под конец перевёз туда и младшего инвалида Василия с семьёй, выбил им всем на первых порах бараки.
Виктор и Татьяна вживались в специфическую городскую среду достаточно быстро и без проблем: были шустрые и здоровые оба, имели такие же здоровые семьи, крепких жён и детей. Инвалиду Василию приходилось в этом отношении куда сложней, за ними здоровыми-то угнаться: он шустрым и пробивным быть не мог по определению, или по воле Судьбы, если быть совсем точным… Но жить-то ему и его семье хотелось не хуже и не беднее всех остальных – это дело нормальное и естественное, и очень даже понятное. Вот предельно самолюбивый и волевой от природы Василий и рвался из последних сил, не желал отставать от других, здоровых и пронырливых родственников и соседей, падать в грязь лицом перед ними, нытиком-слабаком выставляться, в нищете и серости прозябать, беспробудном пьянстве и скотстве.
После переезда в город он сразу же устроился работать в сапожную мастерскую сапожником, где надо было на заднице весь день сидеть и никуда не ходить, не дёргаться, что его, инвалида, вполне устраивало. Устраивала и зарплата, неплохая в целом, да ещё и сдельная. Сколько каблуков на подошву набьёт, сколько туфель и сапог залатает-починит – столько и получит на руки. А он на работу злой был, горячий: трудился много и качественно, на совесть. От заказчиков претензий и нареканий не было, жалоб.
Одна его мучила беда: до работы надо было каждый Божий день добираться как-то. Полкилометра туда, полкилометра обратно, – мелочь вроде бы для здорового человека. Но для него, слабоногого, это превратилось в большую проблему с первого дня, отнимавшую изрядную долю сил. Да и времени – тоже.
Поэтому-то – хочешь, не хочешь, – но он сразу же вынужден был одолжиться и купить себе велосипед, который был жизненно необходим и стоил в 60-е и 70-е годы очень и очень дорого. Четыре месячные зарплаты отнял двухколёсный транспорт в итоге, который с того времени у него регулярно крали бессердечные злые люди, когда он его у продмага порой оставлял, чтобы зайти вовнутрь и купить папирос или домой съестного. Пока он заползал в магазин черепахою, пока покупал и упаковывал товар, рассчитывался с продавцами, пот с лица вытирал, переводил дыхание где-нибудь в сторонке, – местные жулики-щипачи, будто специально стоявшие поодаль и его, бедолагу, выслеживавшие, Василия и наказывали, “опускали на бабки”, как теперь бандюки говорят, объегоривали. Он выходил на улицу, взмыленный и раскрасневшийся от ходьбы, – глядь, а велосипеда-то уже и нет. Подлые мужики или дети, зная, что хромоногий хозяин не догонит их, не надаёт по шее как следует и не сдаст в милицию, преспокойненько угоняли технику, которая, повторимся, была тогда дефицитом и стоила страшно дорого даже и для городских. Не говоря уж про нищих деревенских жителей, до старости передвигавшихся на своих двоих.
Так вот и наживались на нём гадкие и мелкие людишки, не испытывая ни сострадания к инвалиду, ни снисхождения. Около десяти раз в общей сложности угоняли у него в городе двухколёсный транспорт, без которого он передвигаться не мог и, потеряв который, сильно потом, навзрыд плакал… Отревев и утерев сопли, возвращался домой кое-как, под старость – ползком почти, занимал деньги на новый, просил братьев сходить и купить побыстрей, и потом долго деньги копил, себя урезал во всём, чтобы с родственниками рассчитаться…
Проблема с деньгами была для него с тех пор пожалуй что главной в городе после собственных недоделанных и слабосильных ног: денег ему всегда катастрофически не хватало. Хотя зарплата сапожника была неплохой, – но единственной. Потому как жена его Анна оказалась бабою норовистой и праздной: работать категорически не желала, брезговала; считала, что работать в семье должен был муж. А то что супруг инвалид, – её это мало трогало и волновало… Больше скажем: раздражало всегда, тоску и тихую ярость в душе вызывало с брезгливостью вперемешку, вечное чувство стыда перед родственниками и соседями, глядевшими на супруга с жалостью плохо скрываемой, болью. «Это твои проблемы, – с неприязнью говорила она ему всякий раз в застольных семейных беседах, когда дело финансов касалось и их нехватки. – Родителей своих благодари, что они такого тебя уродили. А я из-за этого, из-за твоих кривых ног, страдать и мучиться не хочу. Тем более – идти и работать. Я и у папы с мамой никогда не работала, и теперь не хочу. Не бабье это дело – гнуть спину».
Вероятно, она со временем с удовольствием бы ушла из семьи, новую завела с лёгкостью – да вот не представлялось такой возможности что-то поменять хромоногого на здорового, ни разу ей подобное счастье не выпало, не подфартило. Даже и любовников у неё не имелось за целую жизнь по какой-то непонятной причине, одноразовых воздыхателей-ухажёров, готовых от скуки на кого угодно залезть – ради молодецкого ухарства и озорства, куража и потехи. А то и просто ради с водкой стакана… Вот и жила и мучилась баба, кляла судьбу, что уродилась такою страшненькой и непривлекательной, для мужиков пропащей…
Чтобы в городе не голодать и как-то на плаву держаться, семья дяди Васи вынужденно водила свиней и сажала за городом картошку, чем навлекала на себя вечное недовольство его старших здоровых братьев, на которых ложилась основная нагрузка в этом нелёгком и достаточно колготном деле, которые должны были младшему каждый год помогать. За свиньями, правда, он ухаживал сам по очереди с женой Анной: кормил и поил ежедневно, кучи дерьма из-под них выгребал, что для него, инвалида, было делом страшно тяжёлым, страшно! от которого он часами потом восстанавливался и отходил, утирался от пота. Но резать и разделывать выросших поросят каждый год всё равно приглашал братьев Михаила и Виктора на подмогу, сестру Татьяну, которым всё это не нравилось, естественно, предельно занятых в собственных семьях людей, и которых умасливали лишь огромные парные куски свинины-свежатины, что брат Василий неизменно за работу и помощь им троим выделял.
А вот с картошкой ситуация складывалась похуже – до мата дело порой доходило, до громкой ругани! Потому что сажать и копать её за младшего братика-бедолагу, собирать выращенный урожай в мешки, перевозить и перетаскивать их потом ему же в сарай за здорово живёшь, за стакан самогонки по сути, ссыпать там в погреб, животы рвать, пачкаться – понимай: ежегодно кормить картошкой его самого, да ещё и его семью и скотину в придачу Михаилу и Виктору совсем не нравилось, категорически. Для них обоих это было со всех сторон тяжело – и физически, и морально. И если б не слёзные просьбы престарелой матери не бросать больного Василия на произвол судьбы, не доводить дело в его державшейся на соплях семье до голода и развода, – они давно бы послали брата куда подальше с его картошкою и огородом. А значит – и с содержанием свиней (и, как следствие, огромным мясным подспорьем), для которых картошка, кабачки и свекла традиционно являлись главным на Тамбовщине кормом. Варёная картошка, перемешанная с овощами, – не хлеб.
Из двух старших братьев Василия ответственный работник местного горисполкома Михаил на поверку оказался самым ловким и ненадёжным в смысле оказания помощи. Он быстро понял, хитрюга, сообразил – человеком был образованным, ушлым и дальновидным, – что надобно потихонечку от посторонних утомительных огородных дел ему себя ограждать, беречь здоровье и силы, которые на собственную семью пригодятся. И, пару раз поучаствовав в сборе урожая инвалида-брата, повозившись в земле и потаскав мешки, он, заметно вспотевший и перетрудившийся, после этого стал от чужой картошки “косить” – ссылаться на регулярные рабочие собрания и совещания в исполкоме, которые с тех пор приходились у него по какой-то странной и необъяснимой причине именно на сентябрьские страдные дни, когда все нормальные люди в их сельской местности как правило отпуска себе брали и тратили их на сбор урожая, на консервирование и засолку фруктов и овощей, уборку той же картошки.
Про его толстозадую супругу Розалию нечего и говорить. Она у него была дама важная и гонористая, из зажиточной городской еврейской семьи, которая однажды и впустила безродного деревенщину Михаила в дом, устроила в горисполком работать – вывела его “в люди” что называется, в местную знать. Плюс к этому, Розалия работала учительницей географии в школе и малограмотную родню супруга презирала с первого дня, с большим трудом выносила, отгородилась от её забот и проблем высокой стеной, за которую никого из них в свой мир и семью практически не допускала. И если и принимала участие где – то лишь исключительно в застольях, пьянках-гулянках семейных, банкетах на чужой территории, которые она очень любила и которыми никогда не брезговала – избави Бог! Пила и закусывала в гостях много и с удовольствием. И делала это молча, как правило, с брезгливой улыбкою на губах: хозяев, поивших и кормивших её, никогда не хвалила… Увидеть же её в поле с тяпкою или лопатою в руках можно было лишь в страшном сне. К Василию на огород, во всяком случае, она ни разу не приезжала.
Bepul matn qismi tugad.