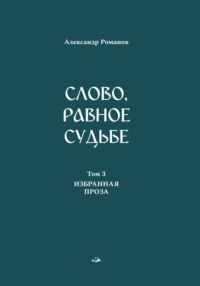Kitobni o'qish: «Слово, равное судьбе. Избранные произведения в 3 томах. Том 3. Избранная проза»
Издание осуществлено благодаря государственному гранту Вологодской области в сфере культуры
© Романов А. А., 2024
© Издательство «Родники», 2024
© Оформление. Издательство «Родники», 2024
* * *

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ РОМАНОВ
18.06.1930 —05.05.1999
«Через слово – жизнь!»
«Дивлюсь мудрости жизни, для большинства живущих не понятной вовсе. Да и мне открылась она, наверно, лишь потому, что никогда я не опережал «самого себя», то есть не нёсся в житейском потоке сломя голову. Я жил и живу так, как думал и думаю: мысль моя возникала как удивление каждодневной новизной мира. Ничего не повторялось и ничего не терялось – вот диво-то! – и становилось совестью…»
Это, на мой взгляд, одно из самых глубоких размышлений А. А. Романова. Он «дивился мудрости жизни», а нам впору удивиться мудрой прозорливости самого писателя-философа, который кратко, несколькими словами – «всё становилось совестью» – объял судьбу всечеловеческую, прозрел высший нравственный смысл всех радостей и скорбей быта и бытия человека. Это уже какая-то иная, метафизическая, небесная высота мысли… И, чтобы подняться на эту высоту, понадобилась вся его земная жизнь, его земные радости и скорби…
Писатель родился в далёкой деревне Петряево 18 июня 1930-го, «переломного»1 года, а ушёл из жизни в Вологде 5 мая 1999 года, когда, после развала огромной страны Советов, уже сама Россия вплотную подошла к черте, за которой мог начаться ещё более великий «перелом» всей её государственности.
Он, безусловно, очень сильно переживал, вспоминая те, давние, «грозовые» и предчувствуя надвигающиеся роковые события в будущем: «Русский народ – судьба моя! – выстоит ли он в ХХI веке?..»
Дожить бы до двухтысячного года
И с высоты веков взглянуть на Русь!
– Душа болит: разлад среди народа.
Я разнопутья нашего боюсь…
Писатель не дожил до этого срока ровно один год, ушёл, не застав время нача́ла возрождения своей любимой Родины. Но сделал самое главное: за свою трудную и счастливую жизнь, он, «удивляясь каждодневной новизне мира», создал более 20 полноценных художественно-философских книг стихов и прозы.
Он много сделал в советской и российской журналистике. Изъездил с командировками чуть ли не полстраны. Стал лауреатом Премии имени А. Яшина, был награждён Орденом «Знак Почёта». Много лет, переняв в своё время эстафету из рук А. Яшина и С. Викулова, работал ответственным секретарём Вологодской писательской организации, подняв её – вместе с друзьями и творцами-единомышленниками – на очень высокий художественный уровень, что привело к появлению в советской литературе такого мощного самобытного феномена, как «вологодская школа»2. Сейчас трудно сказать точно – есть она, эта «школа», или её нет, но одно было ясно: «…И по миру катится молва, / Что за вологодскими лесами / Вырастают спелые слова…» Так, восхищаясь глубиной родного языка, утверждал А. Романов.
Долгое время он был активным участником редколлегии журнала «Север», членом Ревизионной и Приёмной комиссий Союза писателей СССР. Дал дружеское напутствие многим современным российским поэтам, прозаикам и журналистам, детально, с подробными пояснениями разобрав их «пробы пера».
И всё же главным было его литературное творчество, страстное желание мудрым русским Словом утвердить Жизнь. И учителя-наставники, и друзья – поэты, музыканты, художники, и читатели из разных уголков России высоко оценили это творческое устремление автора, почувствовав в его лучших художественных произведениях щедрое тепло его души и свет утверждающей мысли.
Вот как сам писатель, прислушиваясь к себе, объяснял возникновение этого загадочного и всеохватного предощущения творчества:
«…Лишь в душе, лишь в ней одной, да и то как-то в тайне, невыразимо, тлеет всё же грустный обогрев надеждой… И когда занимаешься поэзией, когда вдруг почувствуешь ещё не словом, а каким-то тайным и немым веяньем её приближение к моей душе – вот тогда озаряешься наитием, что есть, есть, есть сила для радости и надежд не только в твоей исповеди, а и вообще в самом вечном круговороте жизни. Может быть, поэтому и в стихах у меня так много света…»
…И почувствую, что сам
Переполнен весь любовью
К людям,
к миру,
к небесам.
Именно это, идущее из детства, светлое и доброе чувство, несмотря на все жизненные тяготы и потери, целиком охватило его, стало его глубинным «внутренним зрением» и определило сущность всего творчества. «Я, – признавался писатель, – из сугубой прозы жизни, окружавшей меня, стремился извлечь и закрепить в слове лишь самое её сияние, ибо и в тяжести дней, и в горе, даже в смерти самой всегда таится свет исхода, свет смысла, как самое последнее утешение, именуемое Поэзией…»
…На себя взгляну иначе,
Подведу в душе черту:
Всё, что важно, обозначу,
Что не важно – отмету…
Самое главное, оказывается, извлечь и закрепить в художественном слове само «сияние жизни»! Но не означало ли это некое «искажение» действительности, состоящей, конечно, не только из «сияния»? Изображение лишь светлой стороны жизни не показывало ли определённую выборочную «однобокость» взгляда писателя?
Думается, что – нет. А. Романов признавался: «Меня слишком крепко держит неисчерпаемый материал моей деревни, то есть самая что ни на есть реальность. Если бы этого материала не было, я быстрее бы пришёл к воображению как к художественному методу».
Как же так: он не «сочинял» русскую действительность, не «воображал» её, а – его творчество переполнено светом и теплом души?.. Писатель, рождённый в русской деревне и знавший её не понаслышке, глядел в самый корень народной жизни, где, конечно, были не только весёлые праздники и шумные хороводы. Однажды его землячка, Нина С., спела частушку (откуда только и вытащила?), смысл которой потряс его:
Не всё горе переплакать,
Не всё – перетужить:
Половину надо горюшка
На радость положить.
В сущности, с какого-то момента творчество писателя и стало представлять собой не «стилизацию» (под фольклор), не «лубочное», «в картинках» выдумывание крестьянской, деревенской жизни, не «воображение», а «переложение» народного горя на радость… Глубинное стремление «извлечь и закрепить в художественном слове лишь самое сияние жизни…»
Черпая в прошлом утешение и деля свою радость с читателями, писатель, собственно, продолжал выполнять и великий пушкинский завет: «лирой» пробуждать «чувства добрые»… И то, что в памяти его держался неизжитый, неисчерпаемый (без преувеличения!) «деревенский материал», привело в итоге к тому, что «деревня» писателя часто разрасталась до масштабов всей России, а её огромная география начинала «вплетаться» в сложную многовековую историю русского народа: «Вот что такое Русь: сколько деревень в ширь земли – столько родов в глубь времён».
Поэтому в своём творчестве А. Романов сознательно «отметал» всё наносное, мельтешащее, вскипающее «на злобу дня» и с любовью и тревогой вёл, начиная с военных лет, свою более чем полувековую «лирическую летопись» Родины, ткал – по слову, по строчке, по образу – удивительный художественный холст. Летописец-романтик, ещё в юности покрыв ткань этого холста скромными северными красками, взрослея, «то дальше, то ближе двигая свет», в самую сердцевину его поместил «одно на свете чудо» – родной, многовековой, многоликий и разноголосый Русский Север!
И – ожили, заходили, заокали земляки-северяне, застучали их острые топоры, запели деревянные дроги… На художественном полотне – щедростью душевного тепла автора – возник лик иконописца Дионисия, стали проступать лица и дела даровитых его земляков – мастеров, сельских и городских учителей-«подвижников», врачей-«фершалов», художников, поэтов, артистов, монахов и даже «божьих людей»…
В основании холста возник, укоренился и вырос образ далёкого и легендарного деревенского «предка», от хмельной, неистовой работы которого «брызгали испуганные щепки, / Шлёпались в озёра и моря…» Безымянный предок-лесоруб творил чудо – доставал рубленый, пиленый, колотый и струганый «клад», а за его спиной открывалась дорога к свету: «И где стыли сумерки сырые, / Как подвалы вековые, там / Синь и солнце хлынули впервые / По его размашистым следам»!
Откуда-то, видимо, из маминых рассказов, на холсте возник и никогда не унывавший петряевский плотник-философ Еня с его мудрой присказкой: «А жить-то, робята, не худо! / Добро, что родились на свет!»
Стали проступать строгие лица и удивительные судьбы совершенно, казалось бы, не знаменитых, «простых» русских людей – скромных и верных матерей-вдов, трудолюбивых устроителей-пахарей и суровых воинов-ратоборцев…
…И есть чему дивиться —
Как из былых веков
Возникли смутно лица
Солдат и мужиков.
Суровы, бородаты,
Ни знаков, ни наград,
Ни имени, ни даты —
Как вечные глядят…
Автор-летописец, дыша полной грудью, «умывался туманами Севера»… И Вологда становилась уже не просто «точкой на карте», а, как и полагается, «Северной Фиваидой» – «Воротами Севера», за которыми – Русь истинная!
Он, любуясь, живописал самую обычную, казалось бы, реку Сухону, а по ней издалека, из сырого, клочковатого тумана медленно надвигаясь, появлялись паруса атамана Дежнёва… И возникала «истории русской строка»!
Он вглядывался в одинокую фигуру П. Засодимского на высоком берегу родной Двиницы, и уже современный читатель начинал задавать себе тот же вечный русский вопрос, тревоживший обоих писателей: «…Как на путях разрух, / Не растерять в развитии России / Народный облик и народный дух…»?
Тут же, исторически близко, на холсте возникали тревожные и мощные, уходящие в вечность судьбы А. Яшина и С. Орлова, Н. Клюева и А. Ганина, а ещё ближе, рукой подать, – набирающее силу русское жизнетворчество Н. Рубцова и С. Чухина, О. Фокиной и В. Белова, В. Юровских и В. Коротаева…
И все эти неповторимые образы, судьбы, лица и лики творцов-устроителей Русского Севера и Руси, множась, откликаясь и перекликаясь друг с другом, оживали в творчестве автора-летописца…
…Я – искатель своих родословий
И туда сквозь века проберусь,
Где на пашне Микула весёлый
Обнимал краснощёкую Русь…
Однако, по мере продвижения в глубь русской истории и культуры, писатель всё больше начинал ощущать сложность полноценного воссоздания жизни словом. Так, его очень тревожила «полуправда» – неверные, неточные, «приблизительные» оценки и характеристики судеб его знаменитых современников. «Потрясающий факт, – восклицал он, – великие люди, ушедшие от нас, Твардовский, Яшин, Шукшин, Рубцов и другие, в нынешнем общественном мнении, после них, совсем не такие, какими они были в жизни на самом деле… Яшин был не только резок, но и нежен; Твардовский – не только патриотичен, но, прежде всего, трагичен; Шукшин – не только социален, а философски взрывчат; Рубцов – не только классически свеж, но и жутко одинок и бездомен.
…А ведь с годами эти истинные черты великих людей всё больше и больше станут ускользать в небытие (не будет очевидцев), и на десятилетия, столетия, может, останутся вот эти искажённые временем и общественным мнением великие горькие характеры и судьбы»3.
То же тревожило его и в судьбах «простых» людей: он стремился «успеть записать о 20–30-х годах всё, что возможно, непосредственно от самих очевидцев: матерей, бабушек, дедушек. Этот материал надо получить из первых рук и составить объективную, насколько это можно, картину жизни тех лет. Через какой-то десяток годов это всё уйдёт из рук, и боюсь, что всякие несуразности и приукрашивания станут выдаваться за подлинное и оспорить будет нечем… Вот поэтому сейчас так привлекают меня мемуары деревенских пенсионеров. Пусть они безграмотны с литературной точки зрения, но дух, атмосферу, детали, даже живые голоса «оттуда» можно почувствовать и услышать, и это всё меня очень волнует…»
Вдобавок к тому, утверждаясь в своём творчестве, писатель всё более ощущал на себе сильное воздействие двух очень разных и мощных потоков – «внешнего», «городского», «книжного» и «внутреннего», «просторечного», «народного».
«Лишь подопру голову ладонью да прикрою глаза на какие-то минуты, как перед внутренним взором оживут в лицах минувшие годы. Они словно этих минут и ждут, чтоб возникнуть из забвения и жаркой явью вновь пронестись в моём сознании. И вот уже два потока жизни – внешний, несущий раздумья, и внутренний, обнажающий память, – сталкиваются во мне и надолго лишают душевного покоя…»
Да, он много учился. Восхищался удивительным, захватывающим дух, «космическим» мироощущением С. Орлова4, а мудрому совету А. Яшина – создавать свою «лирическую философию»5 в стихах и прозе – следовал всю жизнь. И, уже определившись в главном направлении в своём творчестве, он особо подчеркнёт глубочайшую внутреннюю близость к Н. Клюеву и С. Есенину6, а затем – к А. Твардовскому.
Да, он очень много читал, вчитывался в «древние страницы», постигал «книжную премудрость», много занимался самообразованием, собрал хорошую библиотеку, оставив её детям и внукам. И всё же, признавался, «книги – отблеск жизни, но жизни чужой, а не твоей. Легко и любопытно читать чужую жизнь, но трудно и заманчиво делать свою – единственную и неповторимую»
Поэтому подлинную «летописную» силу обретал лишь на родной земле! И, восклицая: «Стихи в деревне я пишу, / А прозу… в городе!», в родную деревню приезжал, как образно говорила его мама, «что прежняя старуха с куде́лей7, чтоб лишний моток напресть [напрясть]». На родине он, и в самом деле, «прял» в своих записных книжках целые и цельные «мотки» деревенских разговоров, былей и небылиц, головой и сердцем уходя в прошлое:
…Я – писец опустевшей деревни,
Но лари моих дней не пусты:
Чем древнее слова, тем согревней,
И стихи ткутся, будто холсты…
А в «ларях» и «коробах» этих чего только не было: и сбивчивые, полушёпотом, рассказы мамы о прошлом, и живая и образная устная речь земляков, красноречивой родни, общительных соседей, и житейские наставления, обычаи и нравы… Целый и цельный мир древних духовных традиций, деревенских легенд, народных примет, крепких трудовых и семейных устоев, замечательного корбангского «говорка», русского фольклора как «самоистины»!
Всё мне дали эти дали —
Ширь ума и жар души.
Провожая, наказали:
Только мудрое пиши.
Так этот сильнейший «внутренний поток», эти «дней минувших человечьи лица», весь этот шумный трудовой деревенский мир с его многовековым и мудрым житейским и нравственным укладом завладел писателем целиком. Он, душой «проживая» это прошлое вновь и вновь и чутко слушая себя в эти минуты, приходил иногда к совершенно удивительным мыслям: «Пережитое – для поэта неизжитое. Оно всегда в нём и с ним… Гулы минувшего лишь усиливают сегодняшние откровения поэзии и обостряют предчувствия будущих»8.
Так, прошлое – в его жизнетворчестве – стало определять настоящее и даже грядущее. Вот – один из его ответов на вопросы корреспондентов областной газеты: «Да, мы верим в своё победное будущее, но зачем же его представлять так сказочно? Вот ребята, подрастая, и ждут, когда такая жизнь наступит. Им долго невдомёк, что будущее – это сегодняшний упорный труд»9.
Так многообразное, многоликое и многоголосое прошлое Родины стало для него высшим, непререкаемым судьёй. «…И деревенские люди тех лет, встающие в памяти, – писал он, – смотрят на меня, теперешнего, строго и взыскательно. Будто говорят они: «Ищи слово, равное своей судьбе. Только таким словом сможешь рассказать и о нас!»10
И сначала робко, а затем всё увереннее сильные народные характеры, удивительные жизненные пути и лица «обычных» и знаменитых людей, сохранённые лишь в памяти старожилов яркие образы и меткие «словечки», выразительные приметы родного края или пропущенные по лености, по нашей забывчивости страницы истории большой страны, и вправду, начинали словно бы оживать…
Вот, например, какая удивительная запись сохранилась в блокнотике писателя:
«Павла, возвращаясь с покоса, остановилась передо мной и вскинула огнетённое усталостью лицо, и я увидел её глубокий, чистый и умный взгляд. Телом остарела, а взгляд какой родниковый!.. Трагическая мудрость – в нём!
Боже мой, на каждом шагу – такие черты и краски жизни, что хоть не отрывайся от блокнота – пиши, пиши! Сама жизнь так и вламывается в глаза и душу. Сколько всего нового!..»
И вопрос «о чём писать?» уже в юности для него исчез сам собой, а его жизнетворчество стало постоянным поиском настоящих «спелых слов», «слов-зёрен», стремлением увидеть «сокровенные завязи» русского языка, припасть к «корневым глубинам родного слова» и желанием отвязаться от идущей с юности журналистской привычки быстро, «сверху» подбирать к любой информации подходящий «штамп» или «стёртую метафору» (с этой болезнью беспощадно боролся, выкорчёвывал из себя!)11. Найти же подобное слово – как чистой ришо́нки12 испить…13
Самого себя А. Романов определял, прежде всего, как поэта, «не знавшего зависти» и «никому не подражавшего». К этим двум очень откровенным самохарактеристикам надо добавить ещё одну, также раскрывающую суть его мировоззрения:
«Я… обнаруживаю в себе то широкую распахнутость „на миру“ отцовского характера, то молчаливую материнскую замкнутость „в своём углу“». И полагаю, что из этих двух противоположных начал и сложился мой характер.
Но тут возникает весёлый вопрос: неужели я как человеческий индивидуум «составлен» лишь из одних родительских черт? Ведь должно же во мне быть нечто и своё, принадлежащее исключительно мне и делающее меня личностью, в чём-то уже не похожею ни на отца, ни на мать. Короче: есть ли во мне черты, так сказать, родовой новизны, уже своего нача́ла? Думаю, что такие черты есть, правда, незначительные. Они выражаются лишь в моей повышенной грамотности, ином образе жизни, профессиональной принадлежности и множестве неведомых ни отцу, ни матери привычек, нередко дурных.
Из вековечного крестьянского сословия (отец, несмотря на свое учительство, был чисто деревенским тружеником) я первый в нашем роду «оторвался от земли» и стал, как говорится, «интеллигентом». Правильно это или ошибочно, сказать трудно. Душа моя рвётся в деревню, а ум – в город»14.
Да, эти разнонаправленные и разновременные «потоки», и в самом деле, «рвали» его. Но, в конечном итоге, в чём всё-таки сказалась сила таланта писателя?
Думаю, что она – в его глубинном, идущим из детства-отрочества желании запомнить, осмыслить, «охватить» и выразить в своём творчестве обе эти удивительные «грани», интуитивно не «сползая» к постоянным упрёкам к городу и не «оплакивая» бесконечно «уходящую Русь». И дело здесь, видимо, не только в «повышенной грамотности» или «профессиональной принадлежности» писателя. «Грамотность» (в широком смысле) давала ему возможность увидеть разные культурно-исторические эпохи и горизонты, оценить различные жизненные выси и дали, сравнить, скажем, развитие Вологодской и Тверской областей, посмотреть на жизнь в ГДР и, например, в Карелии или в Сибири (на родине В. Астафьева). Более того, «городское образование» давало возможность узнать творчество уж совсем не «деревенских» гениев – Гёте, Диккенса, Голсуорси, Фолкнера, Брэдбери… Образование и постоянное самообразование давали ему удивительную возможность высокого творческого роста.
Но вот – поди ж ты:
Меня дивили мощью города
И синевой окатывали дали,
И древности, забывшие года,
Высоким светом сердце зажигали.
А вот щемит печалью звон шмеля,
А за шмелём – пастушечья избушка,
А за избушкой – тихие поля,
А за полями – громкая кукушка.
Ну что тут скажешь?.. Нам, успокоенным мирной жизнью и привыкшим к уже почти постоянной «холодной войне», видимо, не дано до конца понять его, уже тогда, с того самого «переломного» года, разорванного на все эти мощные культурно-исторические и житейские «вихри», «потоки» и «грани» и сумевшего всё-таки глубоко прочувствовать, осмыслить и художественно претворить их в «самое сияние жизни»…
«Поэзия – что же это за энергия духа? Она – не просто и не только стихи! Она нечто, похожее на сияние великого тепла и смысла, проступающего сквозь слова, стоящие в определённом порядке. И вовсе не обязательно рифмованные…»
Это ещё одно откровение А. Романова раскрывает очень сложный и интересный период в его жизни – желание попробовать свои силы в прозе. Пусть читатель сам оценит прозаическую работу писателя, представленную в III томе настоящего издания: поэт «вдруг» решил перейти на прозу. А здесь приведём лишь один пример, показывающий, что за внешней простотой этой «нерифмованной» прозаической речи скрывается сложнейшая интеллектуальная работа именно поэта:
«На спуске к реке, в густой осоке затаился ключик. Раздвинешь траву – а он дышит, мерцает, клонит к себе. Бьётся и не устаёт, будто сердечко земляной глуби…»
Здесь – ни одного чужого, инородного или «придуманного» слова: автор-летописец будто «настраивается» на многовековой народно-речевой лад, «прививается» к нему, и – вот диво-то! – в создаваемом тексте проявляется, кажется, главное условие для возникновения желанного «сияния тепла и смысла» – живой художественный образ мерцающего, дышащего «ключика-сердечка»…
В миропонимании писателя, истина должна обязательно «дышать», а художественный образ – нести в себе мудрый народный опыт или авторское, личностное откровение-прозрение… Настоящая истина должна явиться «в сиянии тепла и смысла»!
Так, постепенно, набирая творческую силу, автор-летописец приходил к выводу, что писать нужно «многомерными» словами, «в которых сквозь современные смыслы исходили бы смыслы древности. Лишь только так можно добиться значительности и устойчивости своего слова – когда в нём задеты сокрытые глубины уже пережитых до нас страданий и откровений. Поэтическое слово – это искра вечности, энергия времени. И современный смысл, выражаемый нами в слове, – лишь мелкая зыбь мысли и чувства на океанской глуби…».
Так определилась главная художественно-философская задача писателя:
«Чем же я занимаюсь? Я восстанавливаю жизнь и людские судьбы, уже унесённые из наших дней в молчаливую вечность»
Воссоздать в художественном слове (словом) былую жизнь и людские судьбы – вот цель и смысл творчества! «Через Слово воскресает вновь… ушедшая Жизнь. Через Слово – Жизнь…»
Итогом многолетних творческих поисков и трудов писателя стало появление на свет в 1990 году «самой корневой книги судьбы и жизни» – «Избранного» А. Романова, «энциклопедии нашей родины, северной земли»15.
А уже в наши дни составители и издатели представляемого трёхтомного собрания сочинений писателя «Слово, равное судьбе», взяв за основу ту, лучшую его книгу, значительно расширили содержание его творчества. Ведь после издания того, очень любимого автором «Избранного», А. Романов жил и творил почти целое десятилетие! В очень тяжёлых условиях (развал страны, распад Союза писателей, уход из жизни близких и дорогих людей, безденежье, совершенная невозможность печататься!) он создал целый ряд очень глубоких лирических откровений и мудрых философских прозрений. В них писатель, видимо, уже предчувствуя сроки16, определённо подводил итоги. Бо́льшая часть их вошла в I том настоящего издания.
И за эти годы очень многое сделала наша мама, Анастасия Александровна, прекрасный филолог и чуткий знаток русской и зарубежной литературы: она, собравшись с силами после ухода самого дорогого человека, систематизировала весь его богатый архив. Обладая удивительной памятью, она воспроизвела жизненный и творческий контекст многих произведений писателя, дала точный, хронологически выверенный комментарий ко всем его поэмам, которые и представлены во II томе.
А в III том вошли прозаические произведения писателя разных лет, частью – из «Искр памяти», частью – из других книг, самим автором оценённые как «недостаточно сильные» или «несовременные», однако, на мой взгляд, нисколько не утративших своё значение и в наши дни.
А. Романов-мл.10 июля 2024 г.