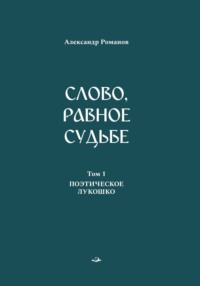Kitobni o'qish: «Слово, равное судьбе. Избранные произведения в 3 томах. Том 1. Поэтическое лукошко»
Издание осуществлено благодаря государственному гранту Вологодской области в сфере культуры
Издание подготовлено к 95-летнему юбилею писателя Александра Александровича Романова (18.06.1930 – 05.05.1999).
В первом томе представлены избранные стихотворные произведения из более чем полувекового творческого наследия автора.
Вступительная статья принадлежит Золотцеву Ст. А., требовательному, строгому к слову и памяти, автору более 25 поэтических книг, единомышленнику Романова А. А. в творчестве.
Завершают том размышления автора о сущности поэзии.
© Романов А. А., 2024
© Издательство «Родники», 2024
© Оформление. Издательство «Родники», 2024
* * *

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ РОМАНОВ
18.06.1930 – 05.05.1999
Русский язык
Русский язык! Звонких житниц запас
Собран Владимиром Далем для нас.
Только к его Словарю прикоснусь,
В душу повеет могучая Русь.
Буквы заглавные – что терема.
Говор живой – что держава сама.
Словно в зарницы, в страницы вглядись —
Даль развернётся, откроется высь.
В гнёздах, что пчёлы, взроятся слова.
Соты медовы. В них мудрость жива.
В пашнях страниц всколыхнётся страда.
Каждому слову – своя борозда.
Слово за словом – и слышится речь:
Родину надо крепить и беречь!
Голос за голосом – слышен народ:
Русь не согнётся, вовек не умрёт!..
В смутах ли страшных, в нужде ли какой
Эту великую книгу открой…
1994
Посвящение
…Я – искатель своих родословий,
И туда сквозь века проберусь,
Где на пашне Микула весёлый
Обнимал краснощёкую Русь.
Я в пути с тех времён и доселе.
Тыщи лет моя память жива.
И в лукошке моём для посева
Золотого отбора слова.
Книга посвящается нашим родителям – Александру и Анастасии Романовым

Анастасия Александровна с сыновьями Сергеем и Александром у портрета А. А. Романова
Образ «лукошка» не раскрывает всю полноту творчества А. А. Романова, однако сам писатель, «крестьянский росток», точно, скромно и мудро обозначил свой вклад в развитие великого русского языка. Так мы и назвали первый, стихотворный том юбилейного издания.
Анастасия Александровна, учитель русского языка и литературы, тонкий ценитель поэзии, музыки, требовательная к искренности таланта и в жизни, и в искусстве, сама сочинявшая стихи, познакомившись с Сашей и его творчеством, оставила свои «пробы пера» и посвятила себя школе, семье, творчеству мужа.
Лучшие стихи, поэмы, очерки писателя обязаны появлением и посвящены ей – Северяновне-невесте и музе-жене. Благодаря ей возник один из самых нежных образов автора – «Вологда моя светловолосая, / С искоркой-снежинкой на щеке»…
После тяжёлой потери мама не опустила руки, с помощью сыновей привела в порядок архив мужа, подготовила и выпустила в свет восемь прекрасных книг его произведений. В 2000 г. предложила организовать Романовские чтения, ставшие ежегодными, и творчески участвовала во всех памятных мероприятиях, посвящённых самому дорогому человеку.
«Своей души не обмануть вовеки…»
Книга А. Романова «Русь уходит в нас»1встала на полку «Библиотеки поэзии России», пополнив её ещё одним заслуженным в словесной традиции нашего Отечества именем. Кажется, что этот строгий, изящный синевато-голубой томик существует в читательском сознании давно – во всяком случае, с именем А. Романова связаны вполне конкретные этапы развития русской послевоенной поэзии: весомое вхождение в неё поколения детей военных лет со своей историко-культурной темой, своей художественной задачей, возникновение и громкая известность вологодской литературной школы, поразившая современников как своей творческой «монолитностью», так и свежестью красочного слова русского Севера. Поэзию Романова, как известно, из песни не выкинешь.
С вполне понятным интересом и волнующим чувством ответственности вчитывался я в этот томик избранного. Впервые поэт предстаёт в такой цельной поэтической самостоятельности, является читателю всей своей жизнью в литературе. И видишь – да, он именно такой, каким его узнавали и запоминали по ранним книгам, по наиболее значительным его произведениям (к сожалению, в состав избранного почему-то не вошла лучшая поэма А. Романова «Чёрный хлеб»): возросшим от тысячелетних российских корней, мужской закваски, с душой, открытой добру и красоте, в некрикливом мужестве, крепкой исторической памяти, с остро-болевой, наступательной жизненной позицией, со стремлением оставить на земле своё «отчество» («Имена становятся отчеством – / Это наши уже имена!»).
Преклонение перед словом «отчество» само говорит о нерушимом в душе поэта чувстве наследственного своего существования на земле, «чувстве корня», живом присутствии в его творческом мире неушедшего прошлого. Тема «отчества» предстаёт у А. Романова, можно сказать, в ликах – в обликах предков такой нетленной отчётливости, что кажется: они не воображением поэта созданы, а въявь существуют в нашем сегодня.
И есть чему дивиться —
Как из былых веков
Возникли смутно лица
Солдат и мужиков.
Суровы, бородаты,
Ни знаков, ни наград,
Ни имени, ни даты —
Как вечные глядят.
Мужицкая святость могуча, размашиста делами, велика упорством. Прадеды – это те, кто при Петре прокладывал рукотворные речные русла: «…шли, как на Руси обычно, / За мастерами мастера. / Их безымянное величье / Великим делало Петра». Предков-устюжан въявь видит поэт на Енисее: «В глазах сверкало изумленье, / Кипели ветры в бородах, / И стрелы в диком оперенье / Свистели около рубах».
И высоким делало пространство
Личное достоинство моё.
Живые предки поэта – это творимые им остановленные мгновенья, напряжение души, крутое и необходимое дело искусства. Именно так настроен глаз поэта-художника, именно такова его осознанная творческая программа. Что проявляется даже в таком штрихе: «берёзы… / Белеют всюду, словно письмена / Далёких предков, / Свёрнутые в трубки».
Запечатление ликов у А. Романова – это труд по сохранению несомой ими духовности, национальных нравственных устоев, русской души, которая для поэта вовсе не потёмки – а свет. Влечёт поэта сказочный образ Ивана-дурака своей неизмеримостью, неразложимой логикой доброты, необъяснимостью возникновения и множественности его. Запечатлённое мгновенье – стихи о былых деревенских дураках:
То топорик, то пастуший кнут,
То сума, а то, бывало, дудка,
Одежонка рваная, обутка —
А они пророками идут.
В чём их пророчество? В силу безоглядной душевной открытости: «Сдуру лезут на рожон без страху, / Отдадут последнюю рубаху…». Да, перевелись такие… – вдруг вздыхает поэт.
Тут не могу с ним согласиться. Сказка русской души живуча, продолжена в бесконечность грядущего. Если поэт о ней помнит, если делится ею с читателем, то, значит, есть основа для такого нравственного общения и в современной жизни. Здесь вдруг понимаешь реальную для поэта опасность ограничения самого себя, своих горизонтов. Некое превращение остановленного мгновения не в вечность искусства, а в частный случай. На этой грани колеблются многие образы поэта. Так, в стихотворении «Трое» в удивительной духовной отчётливости явлен образ павшего фронтовика Великой Отечественной – он и снимок на стене в доме его жены, вышедшей за другого, и вполне реальный «третий» в супружеской жизни: «Так живёт незримо с вами третий, / Ваша память, верность, чистота». Бережно, чистыми руками прикасается поэт к бытийной теме любви, смерти, дома, верности, памяти. Но, к сожалению, не выводит её на орбиту вечного в искусстве. Опять даёт себя знать «частный случай»:
Он хороший, но его невольно
Сравниваешь с первым, с тем, порой,
И тебе всегда бывает больно,
Если в чём-то не похож второй.
Снижение, как видим, слишком резкое, упрощённость подхода срабатывает отрицательно. Таково и «насильственное омоложение» поэтом ровесниц: «Чуть что – и огорчённо / Вспыхнут, вскипят. / Глядишь – опять девчонки, / Девчонки опять!» Тут же поэт прилагает рецепты омоложения в виде назидательной морали: «Чтоб молодым остаться, / Надо любить», «Будьте вы, девчонки, / Девчонками всегда!» Намерения у поэта хорошие, а вот поэзии маловато.
И начинаешь бояться за поэта, а вдруг он, незаметно для себя, своё художественное призвание превращает в приём, всего-навсего в надёжный и испытанный способ самовыражения… Во всяком случае, такая опасность существует. И хочется предостеречь от неё поэта, потому что в нём заложена подлинная способность к поэтическому воскрешению памяти, способность радостно-самобытная, дающая ему право на собственный неповторимый творческий почерк. Такой, как в стихотворении «Память». Здесь подлинный Александр Романов.
Я знаю, что это не ново.
Но сердце болит оттого,
Что липы густеют медово,
А в доме и нет никого.
Не пчёлы, как прежде, а овод
Гудит у плеча моего.
Хозяйка не выйдет навстречу.
Хозяин, как свой человек,
Не хлопнет меня по заплечью.
Мол, вспомнил, прибрёл на ночлег.
Их чистой окатистой речью
Душе не омыться вовек…
Что минет – воротится в душу…
Как мелко я жил и дружил,
Как мало я слушался, слушал,
Как редко гостинцы возил…
Сжигает полынною сушью
Меня у родимых могил.
Здесь пригождаются все свойства Романова-поэта: бытовая основательность, внимание к близким подробностям окружающего, приглядчивость его разговора, внимательность к слову собеседника. Частное становится ёмким художественным образом, как «окатистая речь» хозяев дома… Здесь понимаешь, что А. Романов несёт именно свою ношу в литературе, что он – прирождённый «собиратель» родного в стихи, что не «архивны», не «архаичны» у него приметы исконного российского быта…
В яркий, красочный хоровод выстраивается у поэта народная жизнь.
Вспомнилось детство перед войной:
В каждой избе у нас многолюдство.
Сядем за стол перед чашкой одной —
Ложки, что птицы, дружно несутся.
Мать поутру испечёт каравай,
Кликнет, и сыплемся мы спросонья,
Только ломти успевай подавай
С луком зелёным да крупной солью.
В этот хоровод вплетаются щемяще родные реалии: «Крыши в тёплой позолоте, / Дух коровий по дворам, / Словно лебеди на взлёте, / В избах крестовины рам», печь, самовар, дорожка от крылечка до колодца, звенящие в утреннем воздухе вёдра, кольцо на двери, колодезный журавель, «гармонь златополенная / Начнёт в печи играть», в поле «соломы копны тёплые на нём / Неровными рядами замирают, / Как на огромном на поду печном / Забытые хозяйкой караваи».
Всюду, куда ни глянь, на том же сеновале – «заметы тайные… о краснозорных, огневых и сарафанных сенокосах»… В хороводный круг, расширяя, расцвечивая его, насыщая реальностью человеческих жизней, судеб, входят девичьи, женские образы. Девичья тема в художественном мире А. Романова – это пейзажи природы, движущегося времени. Своеобразные «времена года» изображает поэт, рисуя девичьи портреты. Вот – «Зимнее утро»:
Поленьями ольховыми
Похрустывает печь.
Как благодатно с холода
Кофтёнку сбросить с плеч!
И вот в сиянье жарком
Она полунага.
Шипя, летят огарки
Стрекозами к ногам.
Их веником сметает,
Чтоб ноги не обжечь,
И шаньги на сметане
Начинает печь.
На окнах иней розовый:
Видать, заря встаёт.
Пропели рядом розвальни
И встали у ворот.
Так и веет на тебя острой, пахучей прелестью русской зимы, студёно-жаркого деревенского житья, веселящих душу хлопот в доме, всей этой атмосферы гаданья о счастье. Девушка-зима – так можно назвать образ-стихотворение А. Романова.
А вот – девушка-лето:
И я не могу надивиться,
Что даже в такой солнцепёк
От свежих купальниц струится
Атласный сырой холодок.
И пахнет в безоблачный полдень
Дождём грозовым и ещё…
Ну чем же, ну чем?
Ах, припомнил —
Прохладою девичьих щёк!
Есть и весна, и осень: «Она стоит, облокотившись / На вересовый черенок. / И каждый звук и запах слышен, / И сладкий тянется дымок». Есть и замыкающий этот девичий венок образ бессмертной юности: «Девки, пойте, девки, пойте, / Я – старуха, да пою-у!..»
И колеблется в затоне,
И светлит в камнях струю
Это дерзкое, родное
И бессмертное – «пою-у!»
Из этого многолюдного, хороводного человеческого пейзажа вырастает, поднимаясь, если можно так высказаться, караваем души, удивительно вызревший у поэта образ матери. Он вбирает в себя и житейские приметы, но перерастает их, предстаёт в чистой духовности русской красоты, как в стихотворении «По рыжики не выбраться ли нам?..»:
Мать подожду. Она бредёт ко мне.
И след её опять раздумьем выстлан.
Ну, а в корзинке на глубоком дне
Одни лишь листья, золотые листья.
Детство поэта пришлось на военное время, молодость – на оскудение русской деревни, память его – ближняя память – просквожена болью, утратами. Из спекшейся боли, грусти, тревоги выплавлял поэт своё чистое, светлое слово, в этом и сказался великий оптимизм его народного корня. Свет сквозь боль – образ озера на Карельском перешейке, на берегу которого пал его отец. Оно «темнело чашей вдовьих слёз / В своём взрывном покое».
Александра Романова – певца крестьянской, народной доли – можно угадать именно по таким концентрированным образным штрихам. Такова вспышка-штрих современности: «И машина шла напролом, / Светом фар в полях мельтеша, / Словно там металась огнём / Человеческая душа». Заметим, тут поэт не обобщает время, «не идёт на символы», а получается ёмко, потому что здесь концентрация духовного зрения поэта.
В этой связи хочется поделиться раздумьями и наблюдениями над работой современных поэтов из поколения Романова. Его сверстники во многом прошли – с боями – значительный литературный путь, заметим, надолго «удерживаясь» в звании молодых послевоенных поэтов. Сейчас, перевалив порог пятидесятилетия, имея имена хотя и в различной степени, но достаточно громкие, они неожиданно «разделились» на два разряда: уже сказавших всё своё и идущих в творчестве вслед самим себе и – резко пошедших на взлёт. Не надо много примеров. Достаточно вспомнить именно сегодня идущую к читателю поэму Валентина Сорокина «Бессмертный маршал». К какому же разряду принадлежит А. Романов? Мне кажется, что он ещё не сказал «всё своё», тому основанием заложенное в его поэзии хоровое, «хороводное» эпическое начало, живущая в его стихах собранная «окатистая речь» народная. Романов – один из далеко не многих, кто сумел остаться в своём слове современно русским, «беспримесным» по чистоте языка поэтом. Дело не только в естественном отборе слов, в противостоянии всяческой ломке речевого строя, завещанного ещё от «Слова о полку Игореве», а и в способности его стиха звучать всем звуковым богатством народной поэзии, её густой аллитерированности:
Красноярск завьюжил красной каруселью
И пропал в дымах, как в лебеде.
Свежаком в лицо захолодило
От разбега волн и облаков.
И несётся теплоход, как льдина,
Меж палимых зноем берегов.
Густая, сочная речь! Почва её – песенная, «помнящая» былинные распевы, живая говором сегодняшнего дня.
Притом и укладывается она в стихи не «мерными рядами» строк, а как бы протекая прихотливо по естественному, бытийному руслу, с переменчивым размером строк, но с постоянством единого чувства-настроя.
Как услышу я знакомый говорок:
«Наша Вологда – хороший городок!» —
Словно ветерком обдует сердце,
Тёплым, чистым, хвойным ветерком,
И от грусти никуда не деться:
Жалко расставаться с земляком.
Но это вовсе не значит, что А. Романов как-то разделяет письменную и устную культуру стиха, напротив, он, как все лучшие русские поэты его поколения, сращивает их, «пересаживает» классический стих на народную основу. В его стихотворениях встречаются формы, интонации, свидетельствующие о пройденной поэтом школе русской поэзии девятнадцатого, начала двадцатого, а то и восемнадцатого веков. Чем не «фетовские», не «тютчевские», скажем, эти строки:
Эти прялки огнелики,
Эти дуги, шаркуны —
Только звоны, только блики
Той – под нами – глубины.
Эти льны, как утро, явны,
Кружева, как вздох, чисты —
Только тихое сиянье
Той – меж нами – красоты.
Эти древние строенья
На холмах земли родной —
Только выдох изумленья
Той – над нами – глубиной.
Так поэт приобщается сам и приобщает современную поэзию к извечному несказанному духу народному. И это именно – не побоимся обвинения в «вульгарной социологии» – крестьянское отношение к быту как к красоте, духовности жизни, это крестьянский взгляд, крестьянское слово, прошедшее выучку письменной культуры и оставшееся самим собой, «огнеликой прялкой». Множеством строк, подобных этим, А. Романов заявляет о себе как о представителе подлинно новой, целостной культуры слова, развившейся и окрепшей в русской послевоенной поэзии. Стать им невозможно без сыновней верности, веры в свой род, в необходимое людям величие его призвания. Всё это у А. Романова есть.
И, однако, почему же остаётся впечатление определённой самозамкнутости поэзии А. Романова, почему мы сегодня застаём его в некоторой самоуспокоенности творческой? Ведь не исчерпал же он себя «хороводными» циклами, произведениями – данью памяти предков, словом об отце и матери, «собирательским» энтузиазмом хранителя родного? Сама ягодная россыпь его художнических находок говорит о неиспользованном богатстве его поэзии: «И две косы наперехват, / И в каждой вковано по песне…», «Столкнутся один на один / Грозы тёмно-синие тучи / И красные тучи рябин», «Что цветёшь, калина, поздно? / И о чём душе поёт / Этот взвитый многозвёздно / Над просёлками полёт?», «Предстанут белым клевером / Российские снега» – да, что ни штрих, то ягодка, что ни образ – загадка, частушка, аллегория, современный миф…
Самолёт охапку грома
Сбросил в тихой синеве —
И поленница у дома
Раскатилась по траве… —
да «мифологический» штрих. А вот мысль у поэта он рождает бедноватую: «как непрочен наш покой». Чтобы это понять, не надо быть поэтом. У поэтов другая задача: упрочить жизнь. А. Романов участвует в решении этой задачи. Но, увы, не до конца. И вдруг понимаешь, почему: накопление им мастерства, художественных задач идёт у него именно «по ягодке». Есть в строках-образах выход в пространство мирообраза – хорошо, нет – и так сойдёт… Отсюда и встречающаяся чересполосицей однозначность, упрощённость поэтической мысли, замыкание на частных случаях. Поэтому поэмы фрагментарны, взгляд неохватист… Порой начнёт поэт широко: «Что красноводье поздняя брусника…», – в строке сразу и простор, и вид окрестный, и пора природы, и даже вкус позднего лета. Но широты хватило лишь на строку. Дальше – резкое сужение кругозора:
Я в ней корзину грузную топлю,
Грущу от улетающего клика
И сам брожу подобно журавлю…
Мне хочется к тебе – в твои печали…
Вот уже и нескладность («топлю корзину» – в чём? В бруснике – неточно, в красноводье – тогда в «нём»), и безвкусица («хочется в твои печали…»). Стихотворение, не успев начаться, сломалось. Даже жаль, что оно попало в избранное, хотя первая строка отменно хороша.
В этом же стихотворении есть строка: «И каждая-то ягодка прошепчет», – нет, не каждая становится достоянием поэзии. Конечно, у каждого поэта есть стихи сильнее, есть – слабее. И вовсе не хочется «уличать» А. Романова в том, что он где-то недоработал, недотянул. Моя забота – вместе с поэтом, в расчёте и на читательскую помощь – понять, что мешает талантливому русскому поэту. И открываешь: его строке, его замыслу, его речи не хватает не каких-то формальных искушённостей, а – простора, воздуха, владения великим законом искусства – перспективой. Той, что раздвигает дали, не даёт ослабеть чувству цели. Ни в коей мере не «сталкивая» двух дарований, поясню свою мысль примером из Н. Рубцова, ровесника младшего, земляка А. Романова. Вот рубцовский штрих:
Да как же спать, когда из мрака
Мне будто слышен глас веков
И свет соседнего барака
Ещё горит во мгле снегов.
Это органическое чувство простора есть у А. Романова, и оно движет его стихом, как, например, в строках о Енисее:
И надо было в радужные краски
Раскрасить дебри, сёла, города,
И ослепить пришельца этой сказкой,
И заманить его навек сюда.
А самому лететь, гудеть прибоем
И океан по-дружески толкнуть.
Немало надо, чтобы стать собою —
Сквозь всю Россию пропахать свой путь!
Но не всегда верен поэт этому «завету Енисея». Собою он, безусловно, является, но не всегда – всем собою. Это не упрёк, а призыв.
…Много горестного, тяжёлого, чёрного в судьбах людей и земли встречаем мы на страницах книг А. Романова, и все же нередко при их чтении возникает чувство, чеканно выраженное в есенинской строке: «Как прекрасна земля и на ней человек!» Мало у кого из современных поэтов есть такая естественная слиянность души и плоти людской с духом природы: это единение, наверно, и зовётся – земная натура. Как-то не поднимется рука приписать поэту «философию пантеизма», хотя такой термин по отношению к нему не был бы отступлением от истины: перед нами, скорее всего, веками бытия на родной земле выработанный, национальный, крестьянско-русский взгляд человека на то, что сегодня именуется «окружающей средой», но для героев поэта среда эта – часть их, они сами, их дом, срубленный из деревьев, которые могут и петь, и плакать смоляными слезами. Сокровеннейшая часть их жизни, исполненная добра, солнца, искромётного веселья, – всего, без чего не прожить человеку в суровом краю и суровом веке.
Птицы возятся попарно,
Зелень видится насквозь.
Клёны бродят, словно парни,
Меж застенчивых берёз.
Ну, а верба пахнет ульем,
И с налёту – ох, смела! —
Обжигает поцелуем
Захмелевшая пчела.
Вера в большом начинается у художника с веры в малом: образ должен убедить своей органичностью. А в этих строках настолько остро ощущаешь «поцелуй» пчелы, что столь непривычная метафора становится символом действительно обжигающей чистоты природы. Вот одно из самых покоряющих свойств мастерства А. Романова: умение открыть особый и целостный мир в частности, в штрихе бытия, облечённом в точный и имеющий символическое значение образ. Чаще всего – образ судьбы человеческой. И при всём этом поэт даёт нам понять, что эта судьба – натура – до конца не познаваема, как бы проста она ни была на первый взгляд.
Я вся измолотилась
В поле, на дворе ли.
В жёны не сгодилась,
Так сгодилась в деле.
– говорит о себе героиня поэмы «Художники» Любка, «ни жена, ни девка», деревенская труженица с незадавшейся личной судьбой. Но именно к ней обращаются взоры приехавших в северную деревню художников, и на их холстах появляются дивные черты «какого-то мира, пока не известного им».
Истинная красота всегда потаённа, и художник порой всю свою жизнь бьётся над разгадкой её, вникает в тайну, пометившую лики самых близких ему людей. Этому проникновению посвящены страницы двух произведений, венчающих книгу, – поэм «Мать» и «Отец». Они связаны меж собою не только сюжетно (героиня первой – вдова солдата, ставшего героем второй поэмы), их единит, прежде всего, позиция автора, выступающего здесь и как действующее лицо. Он ищет истоки той силы, что десятилетиями жила в сердце его матери, потерявшей самого дорогого человека, истоки её веры в жизнь – истоки красоты. Но поэма не представляет собой диалог автора с матерью, она – разговор двух матерей: вдовы солдатки с матерью-землёй. И земля, утешающая старую женщину, возвышает её, обращается к ней как к высшей и разумнейшей части своей – вот где, пожалуй, сильнее всего выражается натурфилософия поэта:
А в памяти моей – послушай! —
Слоями от времён иных
Лежат подзолы равнодушья
И тугодумья валуны.
Ко мне с добром идти – не с речью.
На том стою, тому верна.
И потому я славлю вечно
Союз ладони и зерна.
И не надо здесь забывать, что с труженицей-россиянкой говорит земля, принявшая в себя её мужа-воина, пусть и вдали от родного села похоронен он. Поэт слышит голос своего отца в шуме листопада над дальним озером на Карельском перешейке, где тот принял последний бой… Думается, сегодня, когда мы все заново переосмысливаем трагедии, пережитые нашим народом в этом веке, горькую сущность наших побед, непомерной ценой добытых в минувшей войне, особой остротой наполняются строки из поэмы «Отец» – «за взводом взвод бросали мы / На крепость из железа». На фронте – неоправданная гибель мужчин-солдат, в тылу – страдания женщин, вдов, дочерей, детей и стариков, страдания, не закончившиеся с войной… Какой другой народ обладает такой живучестью и такой тягой к красоте земной?..
А. Романов не диктует нам этот вывод, особенность его творчества в том отчасти и состоит, что оно оставляет простор для размышлений. Вместе с автором мы становимся и художниками, и историками: дуализм, без которого, кажется, в наши дни уже невозможно представить себе подлинное искусство.
Александр Романов с самого начала своего пути заявил о себе как поэт, видящий мир и создающий мир «на особицу», стремящийся самыми точными словами, взятыми из речи своих земляков и сограждан, выразить многомерность и неповторимость народной натуры, трагедийную высоту её бытия, заповедную красоту её духа. Такой дух не терпит ни спешки, ни суеты, он требует от художника максимальной духовной сосредоточенности – и мудрено ли, что немногие из пишущих ступают на эту стезю, далёкую от псевдопублицистической «злобы дня», не сулящую громкого успеха. Масштаб творчества таких художников и определяется, и постигается не сразу…
Думая о творчестве А. Романова, я нередко вспоминаю одно высказывание В. Астафьева. Автор «Последнего поклона» как-то сказал, что в литературе, как и в жизни, есть люди, которые подставляют плечо «под комель», стремятся принять на себя нелёгкую ношу, другие же уходят от такой участи. А. Романов – из первых, в поэзии он берётся за крупную, ломовую работу, «кавалерийский наскок» не по нему.
Без таких беззаветных тружеников пера – к сожалению, исключительно немногих – сегодняшняя поэзия страны была бы анемичной и обескровленной. И стоит ли дивиться тому, что не всё ладно и совершенно даже в этой итоговой и веховой книге его стихотворений: у того, кто за тяжкий груз берётся, нередко трещат и кости, и рубаха. Но из сшибки драматических противоречий жизни, над которыми напряжённо и мучительно размышляет поэт, из сшибки счастья и невзгод, веры и безверья – и рождается тот «сторожевой луч», который, на мой взгляд, символизирует сердцевинную сущность творчества одного из самых значительных поэтов сегодняшней России:
Он жгуч. Он будто откровенье,
Он просекает толщи лет,
И чем обиднее забвенье,
Тем сокрушительнее свет,
Из рваной памяти, из боли,
Из мглы ошибочных дорог,
Из дел, которых не исполнил,
Из слов, каких сказать не смог.
Из полуправды, ставшей в горесть,
Из встреч, растрёпанных уже,
Всеочищающая совесть,
Как жизни весть, горит в душе.
Ст. А. Золотцев,1988