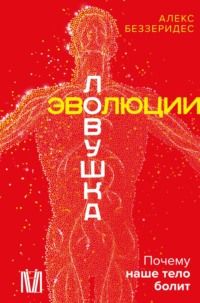Kitobni o'qish: «Ловушка эволюции. Почему наше тело болит», sahifa 4
У животных с ярким тапетумом части вторичного света удается снова пройти сквозь сетчатку, после чего отраженный свет выходит обратно из передней части глаза и приводит к явлению свечения глаз, распространенному у многих млекопитающих. Даже при ярком освещении глаза у человека не блестят, как у опоссума, кошки или енота. Из-за того, что тапетум люцидум отсутствует у человека, яркий свет отражается от множества кровеносных сосудов в задней части глаза, что приводит к эффекту красных глаз, часто наблюдаемому при фотографировании со вспышкой. Камеры с функцией защиты от красных глаз используют короткую вспышку света перед настоящей вспышкой, чтобы сузить радужную оболочку и сделать зрачки маленькими для ограничения количества света от настоящей вспышки, достигающего задней части глаза.
Подобно плотности палочек, наличие или отсутствие тапетума четко прослеживается в зависимости от того, извлекает ли животное пользу из повышенной чувствительности глаз. Тапетум люцидум присутствует у большинства рыб, так как бо́льшая часть доступного света рассеивается и поглощается водой и потому идет постоянная борьба за попадание достаточного количества света на сетчатку. У наземных животных это зависит от того, дремлют они или носятся по ночам. У животных, всю ночь гоняющихся за мышами, есть тапетум люцидум и убийственно острое ночное зрение. Люди произошли от животных, которые, вероятно, имели светоотражающие слои, но они утратились в линии приматов, когда те перешли на эволюционную ветвь, заставившую их добывать корм днем и спать ночью.
ПРОКАЧАННЫЕ ГЕНЫ
Поскольку ночью наше зрение, по сути, никудышное, можно подумать, что мы могли бы компенсировать его невероятным цветовым зрением в течение дня, используя относительно бо́льшую плотность колбочек в нашей сетчатке в сравнении со многими другими животными. В этом есть доля правды, но с точки зрения распознавания цветов мы все же не можем конкурировать даже с самыми невыдающимися позвоночными, такими как рыбы и рептилии. Чтобы понять причину, мы должны рассмотреть предысторию колбочек и то, как они обеспечивают разные типы цветового зрения у разных животных.
В отличие от пигмента, вырабатываемого палочками и делающего их чувствительными к свету в широком диапазоне, колбочки производят пигменты, чувствительные к избранным частям электромагнитного спектра. Люди и другие приматы обычно обладают трихроматическим зрением. Это означает, что мы имеем три разных типа колбочек, каждый из которых производит один пигмент с разными максимальными уровнями поглощения. Такие пигменты обычно описываются как синий, зеленый и красный, хотя на самом деле максимальные уровни поглощения ближе к цветам, которые мы бы назвали фиолетовым, зеленым и желто-зеленым. Мы воспринимаем все разнообразие цветов благодаря комбинации этих трех типов клеток. Большинство других млекопитающих имеют лишь два пигмента, ввиду чего нам нравится думать, что наша группа наиболее развита с точки зрения цветового зрения. Однако, если слегка покопаться в других группах животных, можно увидеть, что даже наше цветовое зрение имеет некоторые серьезные ограничения.
Это один из тех занятных случаев, когда вам придется оглянуться назад на древо жизни, чтобы обнаружить возросшую комплексность. Палочки и колбочки существуют уже долгое время. Они появились на весьма ранних стадиях эволюции позвоночных и уже присутствовали к тому времени, когда древнейшие миксины и миноги странствовали по океану 450 миллионов лет назад. Палочки, так сказать, попрятали свои головы в песок и остались только с одним типом светочувствительного пигмента. Их работа и по сей день проста: есть свет или нет света? Эволюция колбочек – вот где распознавание света становится интересным. Пигменты, вырабатываемые колбочками, дополнились несколькими разновидностями в результате серии дупликации генов.
Дупликация генов очень напоминает следующее: если откатить время назад, то окажется, что существовал единственный вид колбочек, производящих только один тип светочувствительного пигмента. Ген в ДНК некоторых древних рыб кодировал выработку одного светочувствительного пигмента, и в какой-то момент копия этого гена закрепилась в геноме примитивной рыбы, дав ей две копии гена, контролирующего выработку светочувствительного пигмента колбочек.
Копии генов регулярно оказываются разбросанными по всему геному, поскольку ДНК постоянно реплицируется в клетках. Это фундаментальный шаг в процессе деления клеток. Даже самые простые организмы состоят из клеток с миллионами пар оснований (строительных блоков ДНК) в каждой клетке. Человеческие клетки содержат три миллиарда пар оснований в каждой клетке. Миллиарда, не миллиона! Иногда в процессе репликации всей этой ДНК туда проскальзывает дополнительная копия одного или двух генов. Если эти ошибки происходят при формировании половой клетки или на ранних стадиях эмбрионального развития, дополнительные копии ДНК в конечном итоге закрепляются во всех или большинстве клеток организма.
Когда копии генов попадают в геном, это может подтолкнуть эволюцию в любопытных направлениях. Представьте себе семью, в которой есть подросток, безумно желающий водить машину. Если у них имеется только один семейный седан, то он, вероятно, останется таким, как хотят родители: ни тебе забавных наклеек на бампере, ни подвесок для зеркала заднего вида и, несомненно, никаких подержанных динамиков, через которые можно врубать музыку. А теперь представьте, что однажды утром эта семья проснется и обнаружит, что у дома стоит точная копия их скучного седана. Они могут оставить его без изменений, обставленным строго и по-взрослому, а подростку разрешить модифицировать второй экземпляр так, как ему вздумается. Пройдет совсем немного времени, и две версии автомобиля станут заметно различаться. Мутации сохраняются с большей вероятностью, когда существует другая версия гена (или автомобиля), выполняющая свою традиционную функцию. Родители с гораздо меньшей вероятностью будут возражать против ярко-розовых чехлов на сиденьях, если им не придется восседать на них при поездках по городу.
За довольно короткий с эволюционной точки зрения промежуток времени начиная с одного предкового типа гена светочувствительного пигмента колбочек дупликация гена привела к четырем различным классам колбочек у некоторых ранних рыб42. Еще до того, как некоторые рыбы выползли из воды, у многих из них развилось тетрахроматическое (четырехпигментное) цветовое зрение. Подобное особенно эффективно и часто наблюдается у мелководных рыб, которым способность распознавать различные цветовые оттенки приносит большие дивиденды с точки зрения питания и избегания хищников. Однако это явно не так эффективно на глубине океана (свет не может проникнуть глубоко под поверхность), и поэтому обитатели более глубоких вод, как правило, имеют более простую структуру колбочек. Стоит выйти из воды, как преимущества усовершенствованной системы распознавания цветов становятся очевидными. Без поглощающей свет воды все мыслимые и немыслимые цвета готовы стимулировать зрение на суше.
У многих рыб, рептилий и птиц осталась четырехпигментная система распознавания цвета. Они видят с помощью четырех классов светочувствительных пигментов, в то время как у человека трехкомпонентная цветовая система, а у большинства млекопитающих, не являющихся приматами, система состоит всего из двух компонентов. Каждый тип колбочек позволяет воспринимать около 100 различных оттенков цвета. Так что с одним типом колбочек возможно различать 100 оттенков, с двумя – 10 000 (1002), с тремя – миллион (103), а с четырьмя – 100 миллионов оттенков (1004).
ПЯТЬДЕСЯТ (ТЫСЯЧ) ОТТЕНКОВ ЗЕЛЕНОГО
Почему же большинство людей остались только с тремя типами колбочек, а более удачливым рептилиям и птицам досталось четыре? Кроме того, почему у большинства других млекопитающих осталось только два типа, что сделало их цветовое зрение еще хуже нашего?
Принято считать, что во всем виноваты динозавры. По такой логике для ранних млекопитающих лучший способ не стать легкой закуской для динозавра – это прятаться днем и быть активными ночью. Все эти годы, проведенные в дневной дремоте, привели к потере ранними млекопитающими невероятного цветового зрения. Но недавние данные свидетельствуют о том, что все может быть намного сложнее традиционной версии.
Группа исследователей из Музея естественной истории и колледжей Клермонта обнаружила свидетельства ночной активности предков палеозойских млекопитающих (так называемых синапсидов), предшествовавших в эволюционном плане млекопитающим более чем на 100 миллионов лет и динозаврам более чем на 50 миллионов лет43. Другими словами, многие близкие к млекопитающим животные перешли к ночному образу жизни еще до того, как стали полностью млекопитающими, и до того, как появились динозавры, о которых стоило беспокоиться. Похоже, что к изменениям привела диета. Некоторые синапсиды перешли на травоядный рацион, и время этого перехода совпадает с переходом к ночному образу жизни. Возможно, существовало меньше конкурентов, снующих по ночам в поисках еды. Независимо от того, когда и почему, в какой-то момент млекопитающие начали вести своего рода рок-н-ролльный образ жизни: резвиться всю ночь и дрыхнуть весь день.
У животных, которые в течение всего этого периода вели дневной образ жизни, любые негативные мутации в генах фотопигмента колбочек были отсеяны естественным отбором. Должен был существовать сильный отбор против даже малейшего снижения зрительного восприятия. У млекопитающих эти негативные мутации могли сохраниться, потому что при появлении в геноме эти гены были неактивны. У млекопитающих происходила эволюционная смена поколений, и в то время не имело значения, были ли ошибки в генах светочувствительного пигмента колбочек.
Возможно, с появлением динозавров у мелких протомлекопитающих появилась дополнительная мотивация удирать в кусты и прятаться в течение дня. После вымирания большинства динозавров многие млекопитающие вернулись к дневному образу жизни. Вот тогда было бы здорово использовать все четыре гена светочувствительного пигмента. Однако пока млекопитающие вели ночной образ жизни, два гена накопили столько ошибок, что перестали функционировать. Млекопитающие с тетрахроматическими предками-рептилиями вышли с другого конца эволюционного туннеля с дихроматическим зрением.
Линия приматов сумела в некоторой степени восстановиться. Один из двух оставшихся генов фотопигмента у приматов снова дуплицировался, что привело к трихроматическому зрению, которое присутствует у человека и других приматов по сей день. Велось немало споров о том, почему трихроматия смогла закрепиться у приматов, но осталась недоступной для большинства других млекопитающих. И вновь, похоже, движущим фактором была диета. Ранним приматам, питавшимся листьями и фруктами, способность распознавать разные оттенки зеленого и степень спелости фруктов должна была давать большие преимущества. Хотя мы имеем только три типа цветовых пигментов, последнее разделение дало нам поразительную способность различать больше оттенков зеленого, чем любого другого цвета. Мы способны распознать десятки тысяч (некоторые даже утверждают, что сотни тысяч) оттенков зеленого, и благодарить за этот навык, теперь уже не столь необходимый, мы должны ранних приматов, питавшихся салатом. В современном мире это сводит с ума, потому что при выборе зеленого оттенка для гостевой спальни тяжело отдать предпочтение какому-то одному.
ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАДУГИ
Не каждый человек является приматом с трихроматичным зрением. У людей, страдающих дальтонизмом (или цветовой слепотой), формируются два полностью функциональных типа колбочек и одна мутировавшая версия, не способная различать красный или зеленый цвета. Это не означает, что дальтоники видят все черно-белым, просто они не могут различать столько оттенков, сколько человек, имеющий три полностью функциональных типа колбочек. Такие люди дихроматичны и видят вокруг себя ограниченное число оттенков, словно смотрят глазами собаки или медведя гризли.
Цветовая слепота намного чаще встречается у мужчин, так как гены, контролирующие образование цветовых пигментов, расположены в X-хромосоме. У мужчин есть только одна X-хромосома. Другая половая хромосома у мужчин, Y-хромосома, никак не влияет на цветовое зрение. Имея лишь одну X-хромосому с геном цветовой слепоты, мужчины не могут опереться на другую X-хромосому, как женщины. У меня были десятки студентов-парней, страдавших дальтонизмом, и лишь одна студентка-дальтоник, имеющая дефектную копию гена в обеих X-хромосомах. Цветовая слепота особенно распространена среди мужчин североевропейского происхождения и затрагивает почти 10 % представителей этой группы. На моей первой работе преподавателем в очень небольшом колледже на севере штата Висконсин (где многие люди имеют североевропейские корни) большое количество мужчин из преподавательского состава страдали дальтонизмом. Я был единственным, кто мог видеть весь цветовой спектр во всем его великолепии.
История цветовой слепоты принимает интересный оборот, если взглянуть на дочерей мужчин с дальтонизмом. Такие женщины на самом деле обладают четырьмя разными типами колбочек. Предположим, что мутировавшая колбочка в данном случае зеленая. У женщины с отцом-дальтоником будут две копии красной колбочки (по одной от каждого родителя), две копии синей колбочки (вновь по одной от каждого родителя), одна копия нормальной зеленой колбочки (от матери) и одна копия мутировавшей зеленой колбочки (от отца). Получается четыре разных типа колбочек: нормальная красная, нормальная синяя, одна нормальная и одна мутировавшая зеленая. Такая женщина теоретически тетрахроматична, как белоголовый орлан или игуана.
Идея о том, что могут существовать тетрахроматические женщины с исключительным цветовосприятием, была впервые высказана в 1940-х годах, но не получала должного экспериментального изучения до недавнего времени. Исследователи из Университета Ньюкасла создали изображения, которые выглядели бы одинаково для трихроматичных наблюдателей, но отличались бы для тетрахроматичных44. Они обследовали 24 женщины, чьи отцы страдали цветовой слепотой, и подвергли их серии испытаний. Одна за другой женщины оказывались трихроматиками, неспособными различать цвета помимо ожидаемых от людей с нормальным цветовым зрением. Тем не менее одна женщина, указанная в исследовании как субъект cDa29, смогла пройти все предложенные исследователями тетрахроматические тесты. Они обнаружили первого в мире функционально тетрахроматичного человека. На данный момент ученые не знают, почему все четыре типа пигментов у этой женщины остались активными, в отличие от других 23 представительниц женского пола, чья мутировавшая колбочка неактивна, как и у мужчин, страдающих цветовой слепотой. Кроме того, никому не известно, сколько еще существует подобных cDa29. Вероятно, много, учитывая, что от мужчин-дальтоников произошли миллионы женщин. Даже если только одна из каждых двух десятков женщин функционально тетрахроматична, это все равно будет означать, что очень многие женщины обладают исключительным цветовым зрением.
Благодаря четырем функциональным цветовым фотопигментам испытуемая cDa29, рептилии и птицы способны видеть такие оттенки цвета, которые люди с трихроматическим зрением даже не могут себе представить. Мне бы хотелось поговорить с cDa29 и попросить ее объяснить, как для нее выглядит мир. Подозреваю, что для такого скромного трихроматика, как я, это не имело бы особого смысла. В конце концов, какими словами можно описать оттенки цвета тому, кто не способен их видеть? Все точки отсчета – это иные оттенки цвета, которые обычные люди не способны видеть. Это все равно что пытаться описать красоту радуги собаке. У меня бывали подобные разговоры с некоторыми из моих студентов, страдающих дальтонизмом, и, поверьте мне, вы ничего не добьетесь.
ВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ
Для меня наиболее интересные аспекты человеческого цветового зрения связаны с оттенками, которые мы видеть не способны. Наша анатомия ограничивает нас довольно узким диапазоном, тогда как многие другие виды животных способны видеть более широкую часть электромагнитного спектра. Эта способность давно признана у медоносных пчел. Лучшим знатоком медоносных пчел был австрийский этолог Карл фон Фриш, продемонстрировавший в начале XX века посредством серии весьма элегантных экспериментов восприятие ультрафиолетового (УФ) света медоносными пчелами. Как выяснилось, некоторые цветы, например, черноглазая Сьюзан (Rudbeckia hirta), имеют видимые для медоносных пчел узоры УФ-отражения, совершенно неразличимые для человека. Такие узоры служат указателями нектара и действуют как центр мишени, помогая пчелам нацеливаться на определенные части цветков. Цветы от этого получают выгоду, потому что пчелы уносят с собой пыльцу, которую затем переносят на следующий цветок.
Должен сказать, что эти узоры совершенно невидимы для большинства людей. Во время учебы в аспирантуре я услышал от своего научного руководителя историю об ультрафиолетовом зрении у людей. Моим руководителем в аспирантуре был блестящий натуралист по имени Том Эйснер, построивший долгую и выдающуюся карьеру химика-эколога в Корнелльском университете45. Том был также весьма опытным фотографом. Он опубликовал большинство оригинальных исследований, показывающих на цветах ультрафиолетовые узоры4647. В какой-то момент, задолго до нашей встречи, его отец перенес операцию по удалению катаракты, а после восстановления с помощью новых синтетических линз, к большому удивлению, смог разглядеть ультрафиолетовые узоры на цветах!
Эта история показывает, что наша неспособность видеть УФ-излучение связана не столько со светочувствительными пигментами, сколько с фильтрацией света нашими хрусталиками. Фиолетовый фотопигмент (обычно называемый синим, с пиковым поглощением 420 нанометров) способен вызывать генерацию сигнала на УФ-излучение, направляемого в мозг для интерпретации. Однако хрусталики человека обычно отфильтровывают ультрафиолетовый свет и не позволяют ему достичь колбочек сетчатки. Мы думаем, что слепы к ультрафиолету, потому что наше тело не дает возможности его воспринимать. Когда в 1970-х годах отцу Тома сделали операцию по удалению катаракты, не все используемые при таких операциях синтетические линзы отфильтровывали УФ-лучи. Без естественных светофильтров он был способен воспринимать особенности отражения ультрафиолета от некоторых цветов.
В подобной ситуации оказался и французский художник-импрессионист Клод Моне. В конце жизни он боролся с катарактой, и в 82 года ему удалили один из хрусталиков. Операцию провели в начале 1920-х, почти за 30 лет до первой имплантации искусственного хрусталика в 1949 году. После операции Моне, как и отец Тома, смог видеть ультрафиолетовые лучи глазом без хрусталика. Последние несколько лет своей жизни (художник умер в 1926 году) он писал с особой точки зрения, доступной, вероятно, очень немногим другим художникам. Искусствоведы спорят, повлияло ли это каким-либо существенным образом на его творчество. Если отсутствующий хрусталик действительно имел влияние, то, похоже, учитывая слепоту к УФ-отражению у большинства людей, послеоперационные картины могут по-настоящему оценить только медоносные пчелы, получившие образование в области истории искусства. Или же, учитывая недавние открытия, шедевры позднего периода жизни Моне, вероятно, смогли бы оценить любящие искусство собаки. Давно известно, что медоносные пчелы, птицы с трихроматическим зрением и рептилии способны видеть ультрафиолетовые узоры. Последние данные свидетельствуют о том, что многие млекопитающие также могут быть чувствительны к УФ-излучению48. Почти 60 % ультрафиолета способно пройти сквозь хрусталик домашней кошки, а у собаки это значение превышает 60 %. Показатель снижается у крупного рогатого скота и оленей, а у приматов полностью падает. У большинства приматов до сетчатки доходит менее 10 % УФ-излучения, а у многих, как и у людей, оно полностью блокируется.
Почему хрусталики приматов эволюционировали так, чтобы отфильтровывать ультрафиолет? (Я хочу видеть эти узоры на цветах!) Моя инстинктивная реакция как биолога заключается в том, чтобы объяснить это с точки зрения повреждения ДНК. Мы знаем, что чрезмерное ультрафиолетовое облучение очень вредно: люди страдают от разнообразных типов рака кожи из-за воздействия ультрафиолета. Вполне логично, что человеческий хрусталик эволюционировал так, чтобы защищать сетчатку, отфильтровывая потенциально вредное УФ-излучение. Эту гипотезу было легко принять до недавнего открытия широко распространенной чувствительности млекопитающих к ультрафиолетовому свету.
Хотя фильтрация ультрафиолета может обеспечить определенную степень защиты49, согласно другой гипотезе (не исключающей при этом защиту), предполагается, что человеческие хрусталики работают, как горнолыжные очки. Хорошие горнолыжные очки пропускают достаточно света, предоставляя лыжнику гораздо лучший контраст и четкость в сравнении с катанием без очков. Мутации, обеспечивающие выработку в хрусталике молекул, осуществляющих фильтрацию, сохранились в линии приматов с тех пор, как мы стали вести дневной образ жизни. Согласно этой новой гипотезе, отфильтровывая УФ-излучение, мы можем видеть более четко как при взгляде вдаль, так и вблизи.
Способность разглядеть мелкие детали помогает нам распознавать тонкие различия у растений. Такая разборчивость может сыграть решающую роль между употреблением пищи, приводящей к боли в животе (или к еще худшему), и полноценным сытным ужином. Мы также можем выявить особенности добычи, даже если она находится на расстоянии сотен метров. В настоящее время, вдобавок к тому, что мы продолжаем использовать традиционные преимущества, нами применяются уникальные навыки восприятия изображений высокой четкости самыми разнообразными способами. К примеру, невероятная острота зрения превращается в способность управлять автомобилем, поскольку позволяет нам видеть препятствия далеко впереди на шоссе, а затем легко проверять скорость на спидометре или находить нужную кнопку для переключения радиостанции. Уникальная способность человека (или, по меньшей мере, примата) фокусироваться на близких изображениях позволяет нам держать книгу вблизи и различать мелкие детали. Большинству других млекопитающих, если бы они научились читать, пришлось бы носить очки.
ЭПИДЕМИЯ БЛИЗОРУКОСТИ
В разговоре о том, насколько близко следует держать книгу, есть еще один момент, который стоит рассмотреть в этом исследовании истоков трудностей и недостатков, связанных с человеческим зрением. Эпидемиологи заметили тревожную тенденцию в отношении человеческих зрительных способностей. Если коротко, наше зрение ухудшается. Быстро. Уровень близорукости в западных цивилизациях увеличился вдвое по сравнению с тем, что было пару поколений назад. По не вполне понятным причинам в подростковом возрасте глаза удлиняются, в результате чего свет фокусируется в точке перед сетчаткой. Это всегда было проблемой для некоторых людей, но, похоже, становится все более серьезным осложнением практически для всех. В некоторых частях Восточной Азии более 90 % молодых людей страдают близорукостью. Как отмечается в недавно опубликованной статье под названием «Бум близорукости» в пользующемся уважением журнале Nature, в некоторых случаях все можно исправить с помощью контактных линз и очков, в других же проблема настолько серьезна, что, как пишется в статье, может вызвать «отслойку сетчатки, катаракту, глаукому и даже слепоту»50. Что же произошло за последнее время, что отправило столь многих людей по пути близорукости?
Классическое объяснение возникновения близорукости появилось сотни лет назад, когда ученые жаловались на то, что их зрение ухудшается из-за того, что они проводили слишком много времени за книгами. Эти печальные рассказы прочно засели в коллективном научном сознании и, вопреки тому, что они практически не проверялись, дошли до наших дней как наиболее часто повторяемое объяснение. В XXI веке бездоказательно добавился в этот список новый козел отпущения – увеличение личного экранного времени. Вероятно, нет ни одного родителя, который не испробовал бы какую-нибудь версию уловки «дай глазам отдохнуть», чтобы заставить своих детей оторвать взгляд от мобильного телефона или другого экрана. Многие люди без веских доказательств решили, что часы, проведенные перед экраном (или старой доброй бумажной книгой), вызывают напряжение глаз и ухудшают их развитие. Эта гипотеза, порожденная назойливыми бабушками и беспокойными сверхзаботливыми родителями, при ближайшем рассмотрении оказалась несостоятельной. Многочисленные исследования не смогли установить связь между временем чтения или экранным временем и риском возникновения близорукости. Однако во многих независимых исследованиях был выявлен другой, статистически значимый фактор риска развития близорукости: время, проведенное на улице5152. А вернее, недостаток времени, проводимого на открытом воздухе. Дети, проводящие большую часть дня на улице, имеют меньший риск развития близорукости, чем те, кто проводит дни дома. Неважно, как они проводят время на улице. Участвовавшие в исследованиях дети, которые не любят сидеть дома, проводили у экранов столько же времени, сколько и дети-домоседы. Им не обязательно было пинать футбольный мяч или лазить по деревьям: даже если, находясь на улице, они играли в своих телефонах, все равно они с меньшей вероятностью могли стать близорукими.
Это шокирующий результат, если учесть, что гипотеза о напряжении глаз была полностью подтверждена. Однако в этом есть изрядная доля смысла, если глядеть через призму эволюции. Не так уж давно мы сильно ограничили себя пространствами, лишенными естественного света. Безусловно, для нормального развития нашим глазам требуется большое количество естественного света – именно он определял здоровое развитие глаза на протяжении сотен миллионов лет. Неудивительно, что глаза плохо развиваются под воздействием гораздо более тусклого искусственного освещения. Это все равно, что ожидать нормального развития мышц в отсутствие гравитации или развития слуха при ограниченном воздействии звука в первые годы жизни.
Как же быть с нашими глазами? Очевидно, мы ничего не можем поделать с тем фактом, что глаза позвоночных изначально развивались в воде, а теперь мы полностью посвятили себя жизни на суше. Поскольку мы не облизываем глаза, подобно гекконам, нам приходится моргать весь день, чтобы глаза оставались влажными. Наше ночное зрение останется скверным, даже если мы все перейдем на диету, состоящую преимущественно из моркови. Мы созданы так, чтобы различать руколу и эскариол, а не гоняться за мышами после наступления темноты. Нам не суждено вернуть чувствительность к ультрафиолету, не считая историю Моне и удаление хрусталика без его замены. По сути, мы застряли в поиске подходящих очков и постепенном увеличении размера шрифта на наших телефонах и планшетах. Единственное, что мы можем сделать, – это спихнуть наших детей с дивана и заставить их выйти на улицу. Свежий воздух пойдет им на пользу и, кто знает, возможно, даже снизит вероятность того, что им когда-нибудь понадобятся очки.
Bepul matn qismi tugad.