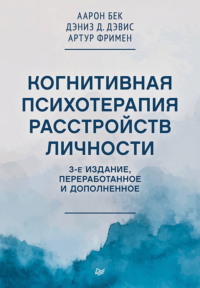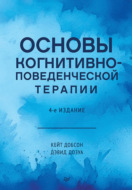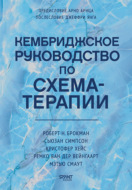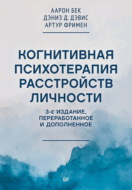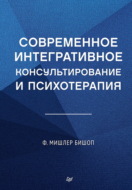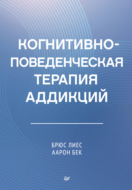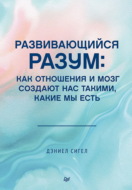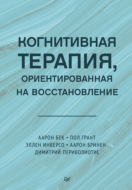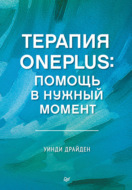Kitobni fayl sifatida yuklab bo'lmaydi, lekin bizning ilovamizda yoki veb-saytda onlayn o'qilishi mumkin.
Kitobni o'qish: «Когнитивная психотерапия расстройств личности»
Серия «Когнитивно-поведенческая психотерапия»
Edited by
Aaron T. Beck
Denise D. Davis
Arthur Freeman

3-е издание, переработанное и дополненное
Переводчик А. Богрянцева
Издательство не несет ответственности за доступность материалов, ссылки на которые вы можете найти в этой книге. На момент подготовки книги к изданию все ссылки на интернет-ресурсы были действующими.

.
© ООО Издательство "Питер", 2025
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
Предисловие КПТ расстройств личности
Авторы и соавторы этого руководства Аарон Бек, его близкий коллега и друг Артур Фримен, а также Джудит Бек, Дэвид А. Кларк, Кристин Падески, Мехмет Сунгур, Марк А. Рейнеке, Арнуд Арнтц – известнейшие когнитивно-поведенческие терапевты. Они создали уникальное структурированное руководство, настоящую научную жемчужину, вобравшую в себя концентрированное изложение их богатого профессионального опыта. Знания, навыки и компетенции, которыми они щедро делятся на страницах этой книги, станут ценнейшим ресурсом не только для начинающих, но и для опытных специалистов, работающих в сфере ментального здоровья. Этот ресурс особенно важен в контексте психотерапии с одними из наиболее сложных клиентов и пациентов, которых ранее было принято считать практически некурабельными и мало поддающимися лечению, будь то фармакологическому или психотерапевтическому.
Расстройства личности – это класс психических расстройств, характеризующихся устойчивыми дезадаптивными паттернами поведения, познания и внутреннего опыта, проявляющимися во многих контекстах и отклоняющимися от паттернов, принятых в культуре индивида. Ведение и лечение расстройств личности может быть сложным и противоречивым процессом, поскольку, как правило, такие расстройства носят длительный характер и затрагивают множество сфер жизнедеятельности человека. Отсутствие прогресса на первых этапах терапии или очевидный прогресс, который затем может резко смениться регрессом, – это проверка специалистов, занимающихся КПТ, на профессионализм.
После официального перехода на МКБ-10 термин «расстройство личности» заменил термин «[конституциональная] психопатия», использовавшийся в советской и российской психиатрии до 1990-х гг. прошлого века.
Еще в древности философы и ученые стремились систематизировать информацию о типах личности. Так. греческий философ Теофраст описал 29 типов «характера», которые он рассматривал как отклонения от нормы. Большое влияние на западный мир оказала концепция типов личности Галена, которую он связал с идеями Гиппократа. Гиппократ сформулировал гуморальную теорию, согласно которой в теле человека текут четыре основные жидкости (гуморы): кровь, флегма (слизь), жёлтая жёлчь и чёрная жёлчь. Он развил идею, позаимствованную из философии еще одного выдающегося грека – Эмпедокла, полагавшего, что Вселенная создана из четырех основных элементов – земли, воздуха, огня и воды и что все известные вещества представляют собой различные сочетания этих элементов.
Гиппократ первым сделал предположение о четырёх телесных соках и, по преобладанию одного из них в организме, условно разделил людей на различные типы. Описанная позднее теория темпераментов ошибочно приписывается Гиппократу: он делил людей на типы не по темпераменту, а по предрасположенности к заболеваниям.
Позднее Гален объяснил и описал темперамент как индивидуальное соотношение внутренних химических систем человеческого организма, с преобладанием одного из «жизненных соков». Гален выделял 13 темпераментов, а уже римский врач Аэций Амидийский свел их до четырёх и описал темпераменты, которые традиционно стали называть «гиппократовскими»: 1) холерик; 2) сангвиник; 3) меланхолик; 4) флегматик.
Такие взгляды просуществовали до XVIII века, когда ученые начали подвергать сомнению предполагаемые биологические свойства характера и «темпераментов». Адольф Гугенбюль-Крейг в начале XIX столетия в своей книге «Эрос на костылях» писал: «…психопатия как явление столь же стара, как само человечество, и каждый считающий человеческие существа в основном нравственными вынужден иметь дело с неприятными, безнравственными аспектами, находящими свое выражение в каждом из нас. Возможно, одно из самых ранних описаний психопатии находится в Библии…».
Психологические концепции характера и концепции «я» получили широкое распространение в XIX веке, когда понятие «личность» стало относиться к осознанию человеком своего поведения. Расстройство поведения еще долгое время продолжали связывать с измененными состояниями, такими как, например, диссоциация. Врачи в начале XIX века начали диагностировать формы безумия, связанные с нарушенными эмоциями и поведением, но без существенных интеллектуальных нарушений, бреда или галлюцинаций. Филипп Пинель назвал это «manie sans délire» – манией без иллюзий – и описал ряд случаев, в основном связанных с чрезмерными или необъяснимыми приступами гнева или ярости. Джеймс Коулз Причард выдвинул аналогичную концепцию, которую назвал «моральным помешательством», и которая будет использоваться для диагностики пациентов в течение нескольких десятилетий. «Мораль» в этом смысле относилась к аффекту (эмоции или настроению), а не просто к этическому аспекту, но, возможно, это был значительный шаг вперед для «психиатрической» диагностической практики того времени, которая стала использовать суждения о социальном поведении индивида. Причард находился под влиянием своих религиозных, социальных и моральных убеждений, а также идей немецкой психиатрии.
Ранее считалось, что психопатии обусловлены «врождённой неполноценностью нервной системы, вызванной факторами наследственности, вредностями, воздействующими на плод, родовой травмой и т. п.». На данный момент считается, что расстройства личности определяет широкий спектр возможных причин. Они варьируются в зависимости от типа расстройства и индивидуальных характеристик человека, а также генетической предрасположенности, определённых жизненных ситуаций, перенесённых в детстве травм или насилия (психического, физического, сексуального).
Немецкий психиатр Юлиус Кох стремился сделать концепцию морального помешательства более научной и в 1891 году предложил термин «психопатическая неполноценность», которая, как предполагалось, была врожденным расстройством. Кох разработал концепцию расстройства личности в том виде, в каком она используется сегодня.
В начале ХХ века другой немецкий психиатр, Эмиль Крепелин, включил главу о психопатической неполноценности в одну из своих основных работ по клинической психиатрии для студентов и врачей. Он попытался классифицировать психопатии (1915), использовав феноменологический принцип и выделил следующие типы психопатических личностей: враги общества (нем. Gesellschaft feinde), или «антисоциальные»; импульсивные (нем. Triebmenenschen), или «люди влечений»; возбудимые (нем. Erregbaren); безудержные (нем. Haltlosen), или «неустойчивые»; чудаки (нем. Verschrobenenen); патологические спорщики (нем. Streitsüchtigen); лжецы и обманщики (нем. Lügner und Schwindler), или «псевдологи».
Крепелин также описал три параноидных (то есть бредовых) расстройства, напоминающих более поздние концепции шизофрении, бредового расстройства и параноидального расстройства личности. Диагностический термин для последней концепции был включен в DSM с 1952 года, а с 1980 года в DSM стали включать шизоидное и шизотипическое расстройство. Интерпретации ранних теорий Эрнста Кречмера (1921) привели к различию в определениях этих расстройств и другим типом расстройств, позже включенным в DSM, – избегающим расстройством личности.
Э. Крепелин предположил, что в основе психопатии лежит задержка развития эмоций и воли. В.Х. Кандинский считал, что при психопатии «неправильно» организована нервная система. Г.Е. Сухарева видела причину в аномалии развития нервной системы, О.В. Кербиков – в «уродливом» воспитании, закрепившем неправильное поведение по механизму импринтинга. И.М. Балинский и позже С.С. Корсаков считали, что в формировании психопатий большую роль играет социальная среда. Эта же идея приводится в работах О.В. Кебрикова, который продемонстрировал отчетливую связь между формой психопатии и особенностями воспитания ребенка в семье.
С. А. Суханов в 1912 году описал четыре патологических характера: эпилептический, паранойяльный, истерический, психастенический. Похожую классификацию предложил значительно позже О.В. Кербиков: опираясь на физиологические механизмы – тормозимые и возбудимые, он подразделил каждую из групп на психастенических и астенических, возбудимых и истеричных соответственно.
Наибольшее признание как за рубежом, так и в России приобрела синдромологическая классификация психопатий К. Шнайдера, единицами которой выступают аффективные (циклоидные), шизоидные, эксплозивные (эпилептоидные, возбудимые), ананкастные (психастенические), истерические, астенические, эмоционально тупые, неустойчивые психопаты.
В 1933 году российский и советский психиатр, ученик С.С. Корсакова и В.П. Сербского, профессор Московского университета П.Б. Ганнушкин разработал учение о патологических характерах, использовавшееся в советской и российской психиатрии до перехода на МКБ-10 в 1997 году. В книге «Клиника психопатий: их статика, динамика и систематика» Ганнушкин предложил следующую классификацию: циклоиды, астеники, неустойчивые, антисоциальные, конституционально-глупые. А также описал дополнительные подгруппы: депрессивные, возбудимые, эмоционально-лабильные, неврастеники, психастеники, мечтатели, фанатики, патологические лгуны. Элементы его типологии в дальнейшем были использованы в работах А.Е. Личко. Опираясь на труды П. Ганнушкина и К. Леонгарда, А.Е. Личко создал собственную типологию личностей. Наибольшую известность приобрела его монография «Психопатии и акцентуации характера у подростков» (1977), ставшая настольной книгой многих поколений отечественных психиатров и психологов. Развивая положения В.Н. Мясищева о «ситуативности» и «индивидуальной гиперчувствительности» к воздействиям извне, А.Е. Личко разработал теорию о том, что каждому типу характера присущи свои, отличные от других типов «места», и у каждого типа своя ахиллесова пята.
Термин «расстройство личности» вошел в широкое употребление отчасти благодаря его клиническому использованию и институциональному характеру современной психиатрии. Общепринятое в настоящее время значение этого термина следует понимать в контексте исторически меняющихся классификационных систем, таких как DSM-IV и его предшественников.
В настоящее время нет точно доказанных причин возникновения расстройств личности. Однако существует множество факторов риска, подтвержденных научными исследованиями, которые варьируются в зависимости от расстройства, личности и обстоятельств. В целом результаты исследований показывают, что генетическая предрасположенность и жизненный опыт, такой как травмы и жестокое обращение, играют ключевую роль в развитии расстройств личности.
Личность, определяемая психологически, – это набор устойчивых поведенческих и ментальных черт, которые отличают отдельных людей. Следовательно, расстройства личности определяются переживаниями и поведением, которые отклоняются от социальных норм и ожиданий. Те, у кого диагностировано расстройство личности, могут испытывать трудности в познании, проявлении эмоций, межличностном функционировании или контроле импульсов.
Близкий друг Артура Фримена Рэймонд ДиДжузеппе, известнейший РЭПТ-терапевт, говорил, что клиентов с расстройствами личности значительно больше, чем предполагает большинство терапевтов. Это подтверждает статистика, так, например, среди пациентов психиатрических клиник распространенность расстройств личности составляет от 40 до 60 %.
Поведенческие паттерны расстройств личности обычно выявляются в подростковом возрасте, в начале взрослой жизни, а иногда даже в детстве и часто оказывают негативное влияние на качество последующей жизни. Исследования показывают, что при расстройствах личности страдает не только психологическое качество жизни, изменяется и нейроанатомия мозга. В частности, изменяются несколько областей мозга: гиппокамп становится меньше в объеме, миндалевидное тело также уменьшается, нарушаются функции прилежащего ядра полосатого тела и поясной извилины, нервных путей, соединяющих их и отвечающих за цикл обратной связи, который определяет, что делать с поступающей от различных органов чувств информацией.
Данных, имеющихся в распоряжении современных ученых и позволяющих понять причины развития расстройств личности, недостаточно, чтобы делать какие-либо обоснованные выводы на эту тему.
Факты свидетельствуют о том, что расстройство личности может начинаться с личностных проблем родителей. Дети могут перенять эти черты либо с помощью генетических механизмов, либо с помощью моделирования. Кроме того, влияние поведения родителей или лиц их замещавших, по-видимому, оказывает значимое воздействие на формирование расстройства личности. Жестокое обращение с ребенком и отсутствие заботы о нем неизменно проявляются как факторы риска развития расстройства личности во взрослой жизни. Причем это касается не только физического и сексуального насилия, но и вербальной, психологической агрессии со стороны значимых взрослых. В ходе одного из исследований, в котором приняли участие 793 человека (матери и дети), исследователи спросили матерей, кричали ли они на своих детей, говорили ли им, что не любят их, не угрожали ли бросить их. У детей, подвергавшихся таким словесным оскорблениям, вероятность развития пограничного, нарциссического, обсессивно-компульсивного или параноидального расстройства личности во взрослом возрасте была в три раза выше, чем у других детей (которые не подвергались подобным вербальным воздействиям). По мнению Джона Боулби (1978, 1981), важнейшие элементы личности взрослого человека, включая уязвимые когнитивные стили, зависят от качества раннего социального взаимодействия и от выводов, которые дети делают о своей приемлемости и привлекательности. Опыт взаимодействия со значимыми фигурами привязанности усваивается в виде когнитивных моделей, которые впоследствии используются для оценки новых ситуаций и руководства поведением. Ряд современных психоаналитиков и когнитивных теоретиков сходятся во мнении, что неблагоприятный ранний опыт может создать психологическую уязвимость в виде негативного самовосприятия или я-схем и увеличить риск психопатологии во взрослой жизни (Arieti & Bemporad, 1980; Beck, 1976; Blatt & Homann, 1992; Brewin, 1989; Safran, 1990).
Группа, подвергшаяся сексуальному насилию, демонстрировала наиболее устойчивые проявления психопатологии. Официально подтвержденное физическое насилие показало чрезвычайно сильную корреляцию с развитием антиобщественного и импульсивного поведения. Кроме того, было обнаружено, что патологии, которые проявились в детском возрасте вследствие жестокого обращения по неосторожности, во взрослом возрасте поддаются выводу в частичную ремиссию.
Американская психиатрическая ассоциация определяет расстройства личности в контексте культуры. Эта группа психических расстройств влечет за собой жесткие модели мышления, поведения и функционирования, которые сформировались достаточно давно и являются преобладающими в разных ситуациях.
В DSM-IV и МКБ-10 используется категориальный подход, в рамках которого расстройства личности рассматриваются как отдельные категории, отличающиеся друг от друга. В противоположность этому подходу, существует так называемый «многомерный подход» (dimensional approach) к расстройствам личности. Сторонники данного альтернативного подхода считают, что расстройства личности представляют собой дезадаптивное наращивание тех же качеств, посредством которых описывается и здоровая личность. Психолог Т. Уидиджер и его коллеги внесли значительный вклад в данную дискуссию. Уидиджер утверждает, что подход, используемый в рамках МКБ-10 и DSM-IV TR, является весьма ограниченным по своей сути, и настаивает на необходимости применения многомерного подхода к расстройствам личности.
Именно многомерный и многоаспектный системный подход к понятию человека как открытой сложной системы, подверженной влиянию биологических, психологических и социальных факторов внешней и внутренней среды, раскрывает эта коллективная монография, написанная опытными и признанными в мире когнитивно-поведенческими терапевтами.
Эта книга поможет лучше понять наиболее сложных пациентов – людей с коморбидными состояниями, лучше их концептуализировать, осмыслить и составить качественный план терапии. Данный труд дает надежду психотерапевтам и их клиентам на то, что даже самые сложные состояния и проблемы могут быть решены за счет осознанности и последовательных действий, направленных на изменение привычек мышления и поведения.
Как отмечает А. Фримен, несмотря на то, что некоторые мысли, чувства и желания возникают в нашем сознании подобно вспышкам, структуры, лежащие в их основе и ответственные за эти субъективные переживания, относительно устойчивы и долговременны. Сами по себе эти структуры не осознаются, хотя мы и можем с помощью интроспекции определить их содержание. Тем не менее через сознательные процессы, такие как валидация, оценка и проверка интерпретаций (базовые методы когнитивной психотерапии), человек может влиять на свои базовые убеждения и во многих случаях существенно менять их.
По мнению авторов этой книги, важно и полезно анализировать психологические характеристики человека с расстройством личности с точки зрения его представлений о себе и других, его базовых или основных убеждений, стратегий поведения и эмоций. Таким образом, психотерапевт получит когнитивно-поведенческо-эмоциональный профиль, который поможет ему понять каждый случай расстройства, облегчит и интенсифицирует процесс терапии.
Одной из важнейших составляющих мастерства когнитивного терапевта является умение вызвать у пациента интерес к обнаружению его собственных убеждений, поиску причин их возникновения, исследованию травмирующих событий и их значения. В противном случае терапия может превратиться в повторяющийся процесс, который со временем будет становиться все более и более утомительным. Меняя способ выдвижения гипотез, используя цитаты и авторитетные высказывания, а также иллюстрируя метафоры примерами и даже анекдотами, терапевт превращает отношения с пациентом в опыт человеческого общения. Определенная легкость и разумное использование юмора также способствуют этому процессу. Именно такими терапевтами были всю свою профессиональную жизнь Аарон Бек и Артур Фримен. Мне посчастливилось вживую наблюдать их терапевтические сессии с клиентами и пациентами, обсуждать детали увиденных процессов, методик и техник. Я получил большое удовольствие от виртуозной работы настоящих мастеров своего дела.
Для меня большая честь и удовольствие писать это предисловие и быть научным редактором русскоязычного издания этого руководства. Пользуясь возможностью, хочу выразить признательность очень значимым для меня людям, оказавшим большое влияние на мою жизнь. Аарон Бек, Джудит Бек, Артур Фримен, Мехмет Сунгур были моими Учителями с большой буквы. Артур Фримен был к тому же моим близким другом и «крестным отцом» отечественной Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, как он сам себя называл. К сожалению, Артур Фримен ушел из жизни в 2020 году, а Аарон Бек, прожив целый век, ушел от нас в 2021 году. Фримен и Бек оставили после себя колоссальное научное и практическое наследие, в том числе и это третье переработанное издание, посвященное когнитивно-поведенческой терапии расстройств личности. Мне, к большому сожалению, так и не суждено было выпустить несколько активно обсуждавшихся мной и Артуром Фрименом совместных статей и написанную в черновике общую книгу. Но и в книге, которую вы держите в руках, отражено много идей, которыми Арт (как называли его друзья) «горел» и щедро делился со своими учениками. Он был великолепным профессионалом и запомнился мне как открытый, жизнелюбивый человек и потрясающий друг, готовый всегда поддержать. Он отличался блестящим чувством юмора, ярким интеллектом и глубочайшими знаниями в самых разных областях психологии и жизни. Артур Фримен работал с самыми сложными клиентами и пациентами. В его практике было много клиентов с расстройствами личности, в том числе попадавших на терапию по назначению суда, и его работа с ними, а также блестящие результаты, которых он добивался, не могли не вдохновлять.
Острый ум Артура Фримена, его открытость и внимательность к собеседникам, любовь и неподдельный интерес к жизни и людям помогали не только всем его клиентам, но также были неисчерпаемым ресурсом для его близких, друзей и коллег.
В этом издании отражены взгляды на потребности человека и их роль в развитии расстройств личности, рассмотрены ресурсы и решения, вдохновившие меня, моих друзей и коллег заняться разработкой когнитивно-поведенческой терапии, ориентированной на потребности. Дисфункциональные способы удовлетворения своих потребностей формируют устойчивые системные паттерны мышления, эмоционирования, физиологии и поведения, которые системным образом раскрыты в этой книге.
В завершение хочу отдельно поблагодарить всех авторов, принявших участие в написании этой коллективной монографии, за четкую структуру, ясность изложения, наглядные примеры и вдохновение, которое, как я надеюсь, воспримут, оценят и используют в своей практической работе отечественные специалисты в сфере ментального здоровья.
Ковпак Дмитрий Викторович,
врач психотерапевт, к.м.н., доцент кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного Государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, президент Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации, член Координационного совета Санкт-Петербургского психологического общества, член Исполнительного совета Международной ассоциации когнитивно-поведенческой терапии (IACBT board member), член Международного консультативного комитета Института Бека (Member of the Beck Institute International Advisory Committee), официальный амбассадор города Санкт-Петербурга
О редакторах
Аарон Т. Бек, доктор медицинских наук, основатель когнитивной терапии, почетный профессор психиатрии Университета Пенсильвании и почетный президент Института когнитивно-поведенческой терапии Бека. Доктор Бек был удостоен многочисленных наград, в том числе премии Альберта Ласкера за клинические медицинские исследования, премии за прижизненные достижения Американской психиатрической ассоциации (APA), премии за выдающиеся заслуги Американской психологической ассоциации (APA), премии за научные исследования в области неврологии и психиатрии Фонда Роберта Джея и Клер Пасароу, а также международной премии Роды и Бернарда Сарнат в области психического здоровья, присуждаемой Национальной медицинской академией, и премии Густава О. Линхарда. Доктор Бек много работал с расстройствами личности и принимал участие в качестве эксперта в двух исследованиях с применением когнитивной терапии пограничного расстройства личности.
Дэниз Д. Дэвис, доктор наук, доцент психологии Университета Вандербильта, где она является заместителем директора последипломного образования в рамках клинической ординатуры. Дениз – одна из основателей, дипломированных специалистов, сертифицированных тренеров и консультантов Академии когнитивной терапии1. Доктор Дэвис сначала занимала пост редактора журнала «Когнитивная и поведенческая практика», а потом была его младшим редактором. Среди ее научных и клинических интересов нравственно-этические аспекты, прекращение терапии, а также когнитивная терапия расстройств личности.
Артур Фримен2, доктор педагогических наук, член Американского совета по профессиональной психологии, является профессором поведенческой медицины в Университете Мид-Вестерн, где он выполняет функции исполнительного директора программ в области клинической психологии как в Университете Даунерс-Гроув, штат Иллинойс, так и в Университете Глендейл, штат Аризона. Бывший президент Ассоциации поведенческой и когнитивной терапии и Международной ассоциации когнитивной психотерапии, а также один из выдающихся основателей AСТ. Его работы, включающие в себя более 100 глав и статей, переведены на 20 языков, а лекции были прочитаны в 45 странах мира. Научные и клинические интересы доктора Фримена включают в себя супружескую и семейную терапию, а также когнитивно-поведенческое лечение депрессии, тревоги и расстройств личности.
Авторы статей
Арно Арнц, доктор философии, кафедра клинической психологии, Амстердамский университет, Амстердам, Нидерланды.
Аарон Т. Бек, доктор медицины, кафедра психиатрии Пенсильванского университета, Филадельфия, Пенсильвания; Институт когнитивно-поведенческой терапии им. Бека, Бала Синвид, Пенсильвания.
Джудит С. Бек, доктор философии, кафедра психологии в психиатрии, Пенсильванский университет, Филадельфия, Пенсильвания; Институт когнитивно-поведенческой терапии Бека, Бала Синвид, Пенсильвания.
Венди Т. Бихари, клинический социальный работник, имеющий лицензию, Центр когнитивной терапии Нью-Джерси, Спрингфилд, Нью-Джерси.
Линдсей Брауэр, доктор философии, кафедра психиатрии и поведенческой неврологии, Чикагский университет, Чикаго, Иллинойс.
Дэвид А. Кларк, доктор философии, факультет психологии, Университет Нью-Брансуика, Фредериктон, Нью-Брансуик, Канада.
Дэниел О. Дэвид, доктор философии, кафедра клинических когнитивных наук, Университет Бабеша-Бойяи, Клуж-Напока, Румыния
Дэниз Д. Дэвис, доктор философии, факультет психологии, Университет Вандербильта, Нэшвилл, Теннесси.
Роберт А. ДиТомассо, доктор философии, Американский совет по профессиональной психологии, кафедра психологии, Филадельфийский колледж остеопатической медицины, Филадельфия, Пенсильвания.
Джей К. Фурнье, кандидат наук, кафедра психиатрии, Медицинская школа Питтсбургского университета, Питтсбург, Пенсильвания.
Артур Фримен, доктор педагогических наук, доктор медицинских наук, Американский совет по профессиональной психологии, AСТ, Кафедра поведенческой медицины и программ клинической психологии, Университет Среднего Запада, Даунерс-Гроув, Иллинойс.
Джина М. Фаско, кандидат наук, Фонд поведенческого здоровья и неотложной медицинской помощи на дому, Дойлстаун, Пенсильвания.
Анил Гундуз, доктор медицинских наук, кафедра психиатрии, Университет Мармары, Стамбул, Турция.
Кэтрин А. Хильчей, бакалавр наук, факультет психологии, Университет Нью-Брансуика, Фредериктон, Нью-Брансуик, Канада.
Павел Д. Манкевич, доктор клинической психологии, Национальная служба здравоохранения, Доверительный фонд NHS Партнерского Университета Южного Эссекса, Клиническая психология, Учебно-методический центр по работе с недееспособными лицами, Данстейбл, Великобритания.
Деймон Митчелл, кандидат наук, кафедра криминологии и уголовного правосудия, Центральный Государственный Университет штата Коннектикут, Новая Британия, Коннектикут.
Кристин А. Падески, кандидат наук, Центр когнитивной терапии, Хантингтон-Бич, Калифорния.
Джеймс Л. Ребета, магистр богословия, кандидат наук, факультет психиатрии, Медицинский колледж Уэйла Корнелла, Пресвитерианская клиника Нью-Йорка, Уайт-Плейнс, Нью-Йорк.
Марк А. Рейнеке, доктор наук, отделение психологии, Северо-Западный университет, Чикаго, Иллинойс.
Джулия К. Рентон, доктор клинической психологии, Национальная служба здравоохранения, Доверительный фонд NHS Партнерского Университета Южного Эссекса, Клиническая психология, Учебно-методический центр по работе с недееспособными лицами, Данстейбл, Великобритания.
Брэдли Розенфилд, доктор психологии, факультет психологии, Филадельфийский колледж остеопатической медицины, Филадельфия, Пенсильвания.
Карен М. Саймон, доктор наук, Когнитивно-поведенческая терапия Ньюпорт-Бич, Ньюпорт-Бич, Калифорния.
Мехмет З. Сунгур, доктор медицинских наук, кафедра психиатрии, Университет Мармары, Стамбул, Турция.
Раймонд Чип Тафрат, кандидат наук, кафедра криминологии и уголовного правосудия, Центральный Государственный Университет штата Коннектикут, Новая Британия, Коннектикут.
Майкл Т. Тридвэй, кандидат наук, Научно-исследовательский центр депрессии, тревоги и стресса, Больница Маклина/Гарвардская медицинская школа, Белмонт, Массачусетс.