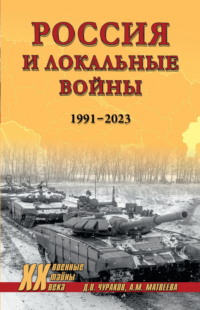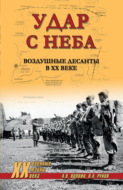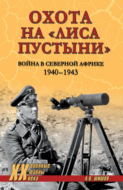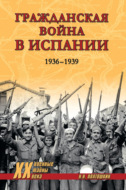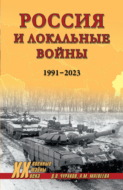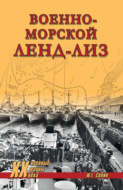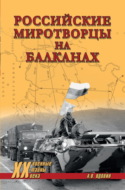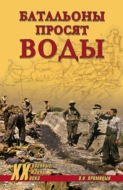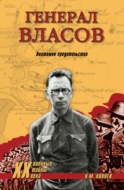Kitobni o'qish: «Россия и локальные войны. 1991–2023»

Военные тайны ХХ века

© Чураков Д.О., 2024
© Матвеева А.М., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
От авторов
Люди остаются главными творцами истории. И это не только олигархи, генералы, политики, звезды эстрады, но и все мы – те, кого пока сильные мира сего и его кумиры предпочитают не замечать. И у всех нас – тех, кто владеет экзотическим островом или фармацевтической корпорацией, тех, кто полагается только на свой интеллект и трудолюбивые руки – совершенно разные потребности, интересы и моральные нормы… И уникальные представления о будущем! И если не удается согласовать интересы, идеалы и принципы многих, особенно большинства, то даже в рамках единой глобальной системы сохраняется почва для конфликтов, единая цифровая цепочка разрушается на составляющие ее элементы. И одним из вариантов разрешения возможных конфликтов в современном мире являются как раз постклассические гибридные войны, а в некоторых случаях – гибридные революции, гибридное повстанческое движение против транснациональных гиперглобалистских кругов, стремящихся разрушить современную человеческую цивилизации и на её обломках возвести свою Антицивилизацию нового рабства для всех свободных народов. Их ненависть к России объясняется одним, но принципиальным обстоятельством – только у России достаточно ресурсов, только у русских достаточно исторического опыта, чтобы разрушить планы новых претендентов на мировое господство.
Еще в 2019 году в отечественной и зарубежной философской, политической, дипломатической, геостратегической, военной, исторической и др. мысли, таким когнитивным конструктам, как «многополярность» и «однополярность», «Запад» и «Восток», «борьба цивилизаций» и др., придавалось повышенное значение. Строились теории и озвучивались заверения, что развитие науки и техники, человеческого потенциала и международной интеграции ведет нас в эпоху всеобщего мира. Но уже в 2020 году многим становится ясно, что, выслушивая заверения политиков, чаще всего мы имели дело не с реальностью, а с ее виртуальным моделированием, глобальным постмодернистским флешмобом. Развитие человечества не стало более мирным и поступательным. Полюсов силы не стало больше, наоборот, все оказалось подверстано к одному знаменателю, но это только усугубило конфликты, сделав их глобальными, а войны просто приобрели новую определенность и новые, порой неожиданные, формы. Всё это мы можем видеть на примере новейшей истории нашей Родины. А значит, без изучения опыта современной истории, в том числе истории локальных и гибридных войн, мы не только не сможем понять специфику существующих глобальных угроз и вызовов, но даже не сможем их увидеть.
Именно к решению задачи анализа истории войн новейшего времени и вызванных ими угроз и приступают авторы на страницах книги, которую читатель держит в руках. В ней разбирается опыт участия Российской Федерации в локальных конфликтах недавнего прошлого и даже настоящего, таких, как СВО (Специальная военная операция). Показано, как происходит постепенная трансформация классических локальных конфликтов «доинформационной», индустриальной эпохи в современные постклассические войны эры информационных технологий, тотальной цифровизации, постмодерна и трансгуманизма. Обобщается, какие успехи были достигнуты, каких неудач и ошибок не удалось избежать. Поскольку мир, окружающий нас, сегодня не стал ни лучше, ни справедливее, ни надёжней, авторы уверены, что проделанное исследование поможет нашей стране выстоять и победить в тех войнах, которые уже ворвались в нашу жизнь, и тех, которые могут поджидать Россию уже в самом ближайшем будущем.
Мы также выражаем самую горячую поддержку российским солдатам и офицерам, которые в настоящий момент пишут историю нашей страны и всего Русского Мира на полях сражений Новороссии. Что бы ни говорили политики и шоумены, как бы ни менялся официальный набор лозунгов в ходе СВО, все граждане нашей страны, особенно бойцы на ленточке, должны чётко понимать, за что идёт война – за единство разделённого горбачёвской перестройкой и последующими десятилетиями «реформ» нашего русского, советского народа. А из этой главной на сегодняшний момент времени цели вытекают и все остальные задачи: денацификация, демилитаризация и демократизация (в подлинном смысле этого слова) Украины. Решим эту – сможем решать и последующие цели и задачи. Разбудим в себе русский культурный код Победителей – и любые горизонты окажутся для нас достижимы!
Наше дело правое. Победа будет за нами!
Будем жить!
АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
Чураков Димитрий Олегович
доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей отечественной истории Института истории и политики МПГУ
Часть I; Часть II; Библиография (совместно с А.М. Матвеевой)
Матвеева Александра Михайловна
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории и культурологии МАДИ
Часть I; Библиография (совместно с Д.О. Чураковым)
Часть первая
От классических к гибридным войнам
1. В преддверии эпохи локальных войн
После распада СССР и демонтажа коммунистической системы российское руководство внутри Российской Федерации столкнулось с целым рядом проблем, которые ранее лежали на плечах союзного центра. Многие из этих проблем были особенно сложными для республиканского руководства, поскольку они оказались вызваны изменениями, происходящими не только внутри страны и на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Эти проблемы, как правило, носили комбинированный (гибридный) характер и были результатом процессов передела глобальной мировой системы, передела мира, который был неминуем после устранения СССР как геополитического центра силы. Мир превратился из биполярного в однополярный. И на перекрестке различных интересов и устремлений оказалась молодая демократическая, как тогда было заявлено, государственность Российской Федерации.
Среди многих широких проблем такого рода одной из наиболее болезненных была проблема большого числа локальных конфликтов и войн, в которые Российская Федерация была вовлечена сразу после обретения фактического суверенитета. Часть локальных вооруженных конфликтов досталась ельцинскому руководству еще со времен Горбачева, когда Союзный центр фактически перестал выполнять свои функции, в том числе функцию центрального арбитра, призванного предотвратить перерастание межэтнической напряженности в конфликты на межэтнической почве. Горбачевское руководство последовательно не хотело использовать имеющиеся в его законном распоряжении методы предотвращения и урегулирования напряженности в горячих точках, включая не только силовые, но и другие методы. В отличие от эффективных решений, курс союзного центра сводился к имитации решительных шагов, полумер, шатаний из стороны в сторону, как, например, это произошло в Азербайджанской ССР в 1990 году. В результате такой недальновидной политики Советский Союз превратился в обширную, плохо контролируемую территорию локальных зон нестабильности. Теперь, после заключения Беловежских соглашений, властям Российской Федерации пришлось иметь дело с этими очагами нестабильности, возникшими в период перестройки. Кроме того, уже в период перехода к суверенной российской государственности складывались новые острые ситуации.
В силу специфики переходного периода изменения, произошедшие в этнополитической сфере в начале 90‑х годов прошлого века, зачастую были напрямую связаны с процессами демонтажа СССР, а также создания системы новых федеративных отношений в самой Российской Федерации. Аналогичные процессы разворачивались и в некоторых других постсоветских государствах и в странах дальнего зарубежья, исторически связанных с Россией. В то время как в некоторых случаях удавалось найти разумный компромисс на определенном уровне нарастающей напряженности, в других случаях не удавалось предотвратить эскалацию конфликтов.
Например, среди бывших ближайших союзников СССР судьба двух стран – Чехословакии и Югославии – была совершенно иной. Если межэтнические конфликты в первом из них не привели к вооруженному противостоянию, и 1 января 1993 года страна спокойно распалась на два независимых карликовых государства – Чехию и Словакию, – то рост этнополитических противоречий в Югославии стал топливным элементом одной из самых кровопролитных войн в современной европейской истории. Аналогичная ситуация сложилась и на постсоветском пространстве. В некоторых случаях взаимные или односторонние территориальные претензии к вооруженной конфронтации не приводили к заключению мирных договоров и заканчивались ими, как, например, между Украиной и Российской Федерацией. В других случаях бывшие республики СССР следовали «балканскому» сценарию, и между ними вспыхивали масштабные военные действия, как это произошло в отношениях между двумя республиками Южного Кавказа – Арменией и Азербайджаном.
Сама Российская Федерация также стала геополитическим полем, где существовало сразу несколько горячих точек. В результате этот первый, начальный этап становления «независимой» российской демократической государственности оказался наиболее проблематичным. Страна оказалась втянута в такие процессы и тенденции, которые чреваты распадом территориального и политического единства. Этот период (начавшийся в 1991 году, а частично даже в 1990 году и закончившийся переходом к восстановлению конституционного строя на всей территории Российской Федерации только в 1999 году) охватывал как раз то время, когда разрабатывались новые формы федеральной и региональной власти, а также новые формы и механизмы их взаимодействия или, по крайней мере, просто мирного сосуществования.
Но трудным был не только вопрос территориально-национального строительства. Рассматриваемое время ознаменовалось кризисными явлениями сразу в нескольких сферах общественной жизни, что создало мощный кумулятивный эффект нестабильности и неопределенности. Провозглашение независимости Российской Федерации и строительство нового государства в первой половине 90‑х годов прошлого века сопровождались ростом острых экономических, социальных и политических кризисов. На этом фоне поиск нового типа федеративных отношений, отношений между Москвой и регионами, стал особенно сложным и противоречивым.
Итак, одним из факторов, определивших судьбу страны в этот период, является процесс, возникший в последние годы существования СССР, который получил название «война законов». Война законов как раз носила ярко выраженный кумулятивный, сложный, гибридный характер, включая этнонациональные, политические, идеологические, экономические и другие аспекты, вплоть до разногласий в интерпретации очень старых и очень недавних исторических событий (которые получат определение «войны памяти», см.: Чураков Д.О. «Войны памяти» и локальные конфликты современности // Преподавание военной истории в России и за рубежом. М. – СПб., 2018. С. 421–431). Это разрушительное явление на союзном уровне было поддержано ельцинским руководством в надежде ослабить позиции горбачевского федерального центра. В отношениях между СССР и союзными республиками парад войны законов помимо прочего принял форму опасного по своим долгосрочным последствиям процесса, который вслед за народным депутатом РСФСР П.И. Зориным в обществе стали называть парадом суверенитета.
Парад суверенитетов, процессы «суверенизации» и война законов действительно ослабили союзный центр, но вскоре эти же процессы перешли на республиканский уровень, повлияв на положение дел во многих союзных республиках. Парад суверенитетов особенно сильно ударил по тем из них, где существовали собственные автономии, например, в Грузии и Украине. Не так ярко и радикально, но столь же неожиданно для большинства жителей СССР проявились сепаратистские настроения в такой, казалось бы, монолитной союзной республике, как Азербайджанская ССР. В Азербайджане вопрос о самоопределении стали поднимать не только армяне, но и представители других этнонациональных групп: лезгины и талыши. Определенные местнические настроения возникли даже в Нахичевани, населенной в основном азербайджанцами. Растущий сепаратизм в этой автономии был направлен и на союзный центр, что привело к принятию 19 января 1990 года внеочередной сессией Верховного Совета Нахичеванской АССР постановления о провозглашении независимости и выходе республики из состава СССР, которое, однако, не продвинуло дело дальше деклараций.
Важно, что такой же процесс роста сепаратизма проявился даже в тех республиках, где ранее собственных автономий не существовало, например, в Молдавской ССР, где сразу две области заявили о своем нежелании следовать политике официального Кишинева в своем развитии. Русские в случае с русской Нарвой, которая была передана Эстонии, или в регионах Южного Урала и Сибири, которые были переданы Казахстану и также были заселены значительным русским элементом, намекали на возможное обострение ситуации в других республиках, где были районы компактного проживания национальных меньшинств, включая русское население.
Не удивляет, что тревожные проявления «суверенизации» и парада суверенитетов были наиболее острыми и распространенными в Российской Федерации – не только крупнейшей республике Союза, но и республике, имевшей на своей территории наибольшее количество автономий. Следующие данные могут дать общее представление о параде суверенитетов в Российской Федерации:
20.07.1990 провозглашен суверенитет Северо-Осетинской АССР;
9.08.1990 – Карельской АССР;
29.08.1990 – Коми АССР;
30.08.1990 – Татарской АССР;
20.09.1990 – Удмуртской АССР;
27.09.1990 – Якутской АССР (Саха);
8.10.1990 – Бурятской АССР;
11.10.1990 – Башкирской АССР;
18.10.1990 – Калмыцкой АССР;
22.10.1990 – Марийской АССР;
24.10.1990 – Чувашской АССР;
25.10.1990 – Горно-Алтайского автономного округа (Горно-Алтайской АССР);
27.11.1990 – Чечено-Ингушской АССР;
12.12.1990 – Тувинской АССР;
28.06.1991 – Адыгейской АО (Адыгейской АССР) и др.
Многие из этих квазигосударственных образований не стремились стать полноценными государствами, а населявшие их народы не стремились начать свой собственный путь исторического развития за пределами России. Но общая ситуация в СССР и Российской Федерации не позволяла их руководству уклоняться от принятия решений в области национально-государственного строительства, решений, направленных именно на укрепление независимости их автономных образований. В то же время некоторые другие российские автономии, наоборот, не собирались оставаться статистами и были вполне готовы не только активно участвовать в параде суверенитета, но и были его инициаторами, по крайней мере на уровне Российской Федерации. К таким регионам с особенно сильными националистическими и сепаратистскими настроениями в то время можно было бы отнести Татарстан, Башкирию, Чечню, Якутию и некоторые другие автономные округа.
Ситуация с российскими автономиями еще более осложнилась после того, как В.И. Ленин резко раскритиковал так называемый «сталинский план автономизации» и предложил собственную концепцию союзного государства (которое, по его мнению, впоследствии могло перерасти в глобальное). С этого момента союзное государство строилось как многоуровневое. В советской историографии считалось, что это стало основой для равноправного развития советских народов1.
В то же время на практике, особенно в сознании региональных лидеров, сложное ленинское строение государства воспринималось как неравенство, можно даже сказать, определенная неполноценность одних автономий по сравнению с другими. Наиболее отчетливо это ощущалось в российских автономных областях, некоторые из которых имели гораздо большее население, огромные пространства и экономическую мощь по сравнению со многими союзными республиками. В частности, это можно отнести к Татарстану, Башкирии, Удмуртии и Якутии. В этих автономных областях РСФСР периодически возникали настроения, вызванные желанием улучшить свое положение. В то же время повышение статуса означало выход автономий из состава Российской Федерации и их прямое вхождение в состав СССР на правах союзных республик. Эти настроения связаны с появлением в недрах правящей Коммунистической партии первой оппозиционной группы, открыто стоявшей не на интернационалистских, а на националистических позициях, то есть такого внутрибольшевистского течения, которое в официальном лексиконе 1920‑х годов называлось «Султан-галиевщина».
Российские автономные республики стали особенно трудно объяснимыми после создания так называемой Казахской Автономной Социалистической Советской Республики на базе российского Туркестана, а также ряда российских регионов Южной Сибири, Урала и Поволжья и провозглашения ее союзного статуса 5 декабря 1936 года. В условиях кризиса государственности конца 1980‑х годов для многих российских автономий подражание казахстанскому примеру было естественным и подпитывалось необходимостью поддержания стабильности хотя бы внутри самих автономий. Казалось, начавшийся парад суверенитетов должен был способствовать стремлению национальных элит наиболее развитых автономных областей РСФСР укрепить свои позиции и перейти от российской к высшей – союзной – лиге.
В то же время парад суверенитетов и война законов были лишь «верхушкой айсберга». Тенденции дезинтеграции, тенденции обострения этнополитического противостояния в Российской Федерации были и глубже, и масштабнее простого стремления отдельных субъектов федерации к большей самостоятельности в национальной, политической и экономической сферах. Многие противоречия между центром и регионами накапливались не годами, а десятилетиями, а некоторые из них имели еще более глубокое прошлое. Просто конфликты, имевшие разную подоплеку и предпосылки – в связи с нарастающими негативными тенденциями, сопровождавшими «перестройку» и «радикальные реформы» начала 1990‑х годов, – совпали по времени, что породило картину общего кризиса в этнонациональной сфере, ставшего отличительной чертой эпохи независимости Российской Федерации. Энергия распада угрожала целостности не только самой федерации, но и ее отдельных субъектов.
Таким образом, этнотерриториальные конфликты привели к тому, что некоторые автономные образования, искусственно укрупненные в советское время за счет объединения двух (а то и более) очень часто совершенно не связанных между собой народов, оказались близки к внутреннему разделению. Пожалуй, наиболее остро вопрос сохранения целостности официальных границ автономии стоял в Дагестанской АССР. Съезд народных депутатов республики 13 мая 1991 года принимает постановление, в котором статус республики был резко повышен: из ДАССР она была преобразована в Дагестанскую Советскую Социалистическую Республику – Республику Дагестан в составе РСФСР.
Вторая часть названия республики не случайна – она должна была снизить межэтническую напряженность в самом Дагестане, что было замаскировано фразой этой резолюции об укреплении и приумножении исторически сложившегося единства, дружбы и братства народов Дагестана. Но в то же время республика объявила себя «равноправным участником Договора о Союзе суверенных Республик и Федеративного договора», то есть заявила о своем желании присоединиться к так называемой Российской Федерации наравне с Россией. Вскоре должен был начаться «Новоогаревский процесс», в рамках которого должны были начаться процедуры развода и формирования новых механизмов объединения народов вместо СССР. Постановление Верховного Совета Дагестана от 17 декабря 1991 года о неделимости и целостности республики также было направлено на сохранение целостности республиканских границ Дагестана.
Однако это были лишь добрые пожелания, столь же беспомощные, как и большинство правовых актов, деклараций, обращений и т. д., которые на рубеже 1980‑х и 1990‑х годов были приняты на разных уровнях пирамиды советской власти для предотвращения или, по крайней мере, замедления процессов распада. На практике в разных частях Дагестана отчетливо проявлялись автономистские и сепаратистские настроения, которые приобрели особо опасный характер из-за слабости властей: союзной, российской и местной дагестанской. Не все было хорошо в Дагестане с чеченской диаспорой. Политические силы, выступавшие за формирование собственного национального государства ногайцев, проживавших на севере Дагестана, заявили о себе. На юге республики аналогичные движения возникли среди лезгин – народа, оказавшегося после распада СССР разделенным российско-азербайджанской государственной границей.
В центральном Дагестане среди некоторых кумыков возникли сепаратистские устремления. В 1989 году среди них появилась организация так называемого Кумыкского народного движения «Тенглик». В нем провозглашается курс на приобретение кумыками национально-территориальной автономии. Движение имело собственные печатные издания: газеты «Тенглик», «Къумукъ иш», «Къумукъ Тюз» и «Тюзню Танги». На Втором съезде КНД, состоявшемся в Махачкале в ноябре 1990 года, была принята «Декларация о самоопределении кумыкского народа». Примерно в то же время начала создаваться еще более радикальная ассоциация «Ватан», которая выпустила свой информационный бюллетень в духе времени под названием «Айан» (что переводится на русский язык как «Гласность»). На втором съезде кумыкского народа, состоявшемся 27 января 1991 года, был образован Милли Меджлис, который был провозглашен руководящим органом нации.
Реакцией на позицию чеченцев и кумыков стало появление в 1988 году Народного фронта Дагестана имени имама Шамиля. Эта организация, формально защищавшая целостность республики, на практике превратилась в еще одно национальное движение, деятельность которого не могла привести к консолидации многонационального общества и преодолению межэтнического недоверия.
Еще одним тревожным фактором в развитии Дагестана является радикализация исламского движения в нем. В первые годы «горбачевской перестройки» в республике проводились религиозные представления. В будущем откровенно экстремистские течения, такие как ваххабизм, начнут проникать в Дагестан из-за рубежа. Приверженцы чуждого учения вступали в столкновения не только с властями, но и с представителями традиционного суфизма республики. Это приведет к вспышке вооруженного противостояния в республике менее чем через десять лет2.
Напряженность возникла в Кабардино-Балкарии, титульные народы которой прошли совершенно разные исторические пути, а в советское время были во многом искусственно объединены. Аналогичная ситуация сложилась и в Карачаево-Черкесии. Изоляционистские настроения могли возникнуть даже в республиках РСФСР, объединяющих очень близкие народы. Вайнахская автономия, объединившая два близких вайнахских народа – ингушей и чеченцев, дальше всех пошла по пути внутриреспубликанского разделения. Результатом стало отделение независимой Чечни от Чечено-Ингушской АССР, которая сразу же выбрала курс на отделение от Российской Федерации. В этих условиях ингуши также создали свою собственную независимую государственность, но они не выражали активного желания находиться за пределами Российской Федерации. После референдума, проведенного среди ингушей, стало ясно, что большинство этноса не поддерживает стремления лидеров чеченских радикальных движений к выходу из состава федерации. На основании полученных результатов в июне 1992 года и принимается решение об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации. И вот 9 января 1993 года заработал закон о разделении Чечено-Ингушетии на два новых политических образования: Ингушскую и Чеченскую республики3.
В то время между двумя вайнахскими республиками не было конфликтных ситуаций. Однако такая ситуация не была характерна для республик Северного Кавказа. Так, вскоре после своего возникновения Ингушетия была втянута в острый территориальный конфликт с другой республикой в составе Российской Федерации – Северной Осетией (подробнее об этом будет рассказано ниже). Сложность ситуации на Северном Кавказе обусловлена прежде всего межполосным расселением народов и существованием множества территорий, на владение которыми претендовали сразу две или более соседние этнические группы. Поэтому процессы суверенизации и отделения, которые угрожали начаться на Северном Кавказе после отделения Чечни в независимую республику, были чреваты серьезными потрясениями.
Но конфликтный потенциал на рубеже 1980‑х и 1990‑х годов был очевиден и в других регионах РСФСР. Таким образом, в ранее относительно спокойном Волго-Уральском регионе возникли растущие очаги противостояния. Этот район еще до революции обладал не только сельскохозяйственным, но и высоким промышленным потенциалом. Рабочий класс здесь имел относительно высокий вес в социальной структуре. Поэтому, с точки зрения официальной идеологии, национальные автономии, расположенные в регионе, не могли прерываться в зонах локальных конфликтов. Но, как мы уже видели на примере ТАССР, эти расчеты оказались ошибочными. В то время в Калмыкии также усилился конфронтационный характер. Однако даже в более стабильных республиках, таких как Удмуртия и Башкирия, возникновение националистических настроений и организаций не обошлось без последствий.
На востоке Бурятия и Тува на некоторое время становятся очагами возможных конфликтов. Особенно взрывоопасной была ситуация в Якутии, где национализм титульной нации и законодательное закрепление ее преимуществ вызвали серьезное сопротивление со стороны народов, считающихся в республике национальными меньшинствами. Среди них зрели не только протестные настроения, но и желание отделиться и создать свои национально-государственные образования. Забайкалье и Дальний Восток становятся зоной риска из-за наплыва сюда граждан КНР и отчасти корейцев, что уже тогда порождало беспокойство у коренных жителей региона4.
Нестабильность и периодически обостряющиеся противоречия в этнополитической сфере налагали на руководителей Российской Федерации большую ответственность, с которой они в то время не всегда справлялись. В результате в условиях тех переломных месяцев угрозой целостности Российской Федерации стали не только вышеупомянутые центробежные настроения на местах, но и непродуманная, непоследовательная, а зачастую просто авантюрная национально-государственная политика российского руководства. Например, известное обращение президента Бориса Ельцина, впервые сделанное 6 августа 1990 года в Казани: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить», подстегнуло рост сепаратизма не только в Советском Союзе в целом, но и, прежде всего, в самой Российской Федерации. Такая позиция демократических российских властей в то время не была случайной. Напротив, это заявление Ельцина не было дезавуировано, а легло в основу практической политики российского лидера, что четко подчеркивает его примирительное отношение к сепаратистским тенденциям рубежа 1980‑х и 1990‑х годов, где бы они ни развивались.
В то же время, и на это следует обратить особое внимание, в большинстве регионов Российской Федерации противоречия разрешались мирным путем. Например, на рубеже 1980–1990 годов в той же Казани местные политики уверенно привели республику к провозглашению независимости и реальному выходу из состава федерации. Дело дошло даже до чеканки собственных суррогатных банкнот – важный признак суверенитета, особенно в условиях безденежного периода в самой Российской Федерации5. Но конфликт с Татарстаном в конечном итоге был преодолен заключением договора о разграничении полномочий центра и республики (15 февраля 1994 года), который если не де-юре, то де-факто в некоторых своих положениях все еще действует. Кроме того, казанские власти с самого начала проводили мягкую политику и старались не выходить из юридического поля.
Здесь следует отметить, что процессы «перестройки» форм национально-государственного единства в Российской Федерации на республиканском уровне в целом протекали менее болезненно и более конструктивно по сравнению с тем, что происходило на национальном уровне. Почему появилась эта тенденция – в историографии этот вопрос не получил исчерпывающего ответа, а сама тенденция по неизвестным причинам никем не отражена. Таким образом, проблема относительно более цивилизованной трансформации форм национально-государственного единства в Российской Федерации по сравнению с СССР в целом требует самостоятельного всестороннего исследования, но в качестве рабочей гипотезы отметим, что одним из сдерживающих факторов на пути к распаду Российского республиканского государства, безусловно, была более адекватная правовая база, регулирующая национальные и территориально-национальные отношения в Российской Федерации по сравнению с тем, что имелось в союзном законодательстве.
В частности, российское конституционное право четко решило вопрос о возможных формах самоопределения народов, входящих в состав Российской Федерации: право на отделение (право на выход из состава государства) не было предусмотрено российским республиканским законодательством, что автоматически делало любые сепаратистские движения, направленные на полный разрыв с Российской Федерацией, неконституционными и выводило их за пределы правового поля. Это обстоятельство в условиях острых этнополитических кризисов государственных институтов сделало Российскую Федерацию более стабильным и жизнеспособным организмом, чем союзное государство позднего горбачевского периода.