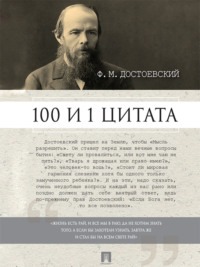Kitobni fayl sifatida yuklab bo'lmaydi, lekin bizning ilovamizda yoki veb-saytda onlayn o'qilishi mumkin.
Kitobni o'qish: «Достоевский Ф.М.: 100 и 1 цитата»
ebooks@prospekt.org
Предисловие

Можно ли узнать жизнь и творчество Ф. М. Достоевского по сто и одной цитате? И да и нет!
Сто одна цитата — не так уж мало, чтобы удивиться загадочной судьбе гения, но вместе с тем не так уж много, чтобы эту загадку разрешить. И все-таки велик соблазн вложить в это «прокрустово ложе» глубокое и значимое содержание, насколько возможно.
Как же в таком случае отобрать цитаты, если полное академическое собрание сочинений Ф. М. Достоевского составляет 30 томов, а о жизни гениального русского писателя написаны десятки тысяч биографий на разных языках? Три из них на русском языке вышли в серии «Жизнь замечательных людей» [Л. П. Гроссмана (1962), Ю. И. Селезнева (1985) и Л. И. Сараскиной* (2011)]. Цитаты из самого Достоевского и о нем могут легко заполнить полки Библиотеки Конгресса США или нашей Российской государственной библиотеки, бывшей Ленинки.
Впрочем, в голове всякого читателя складывается собственный образ Достоевского, и каждый запоминает близкие ему по духу цитаты. Справедливо мнение, что тот, кто прочитал Достоевского, будет не похож на себя, Достоевского не читавшего. Действительно, Достоевский меняет людей, потому что он психолог, или, как он говорил о себе, «реалист в высшем смысле». Достоевский открывает в душе каждого из нас две бездны: «идеал Мадонны» и «идеал содомский». Поистине, по слову героя Достоевского Мити Карамазова, «тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей».
Достоевский пришел на Землю, чтобы «мысль разрешить». Он ставит перед нами вечные вопросы бытия: «свету ли перевернуться или мне чай пить?», «тварь я дрожащая или право имею?», «это человек-то вошь?», «стоит ли мировая гармония слезинки хотя бы одного только замученного ребенка?». И на эти, надо сказать, очень неудобные вопросы каждый из нас рано или поздно должен дать себе внятный ответ, ведь по-прежнему прав Достоевский: «Если Бога нет, то все позволено».
Одним словом, всем вместе и каждому в отдельности жизненно необходим Достоевский — писатель, философ и психолог, потому что он неизменно будит нашу совесть и вытаскивает наружу то мучительное и сокровенное, что мы предпочитаем спрятать от себя на самое дно души, делая вид, что его не существует. Однако есть также Достоевский-человек со своей уникальной биографией заговорщика, государственного преступника, солдата, писателя, властителя дум и пророка. Другими словами, жизнь гения всегда поучительна, всегда достойна пристального внимания, изучения и удивления.
Вот почему книга делится на две части: жизнь и творчество.
В первой части из цитат, составленных из рассказов самого Достоевского о себе и пояснительных комментариев к ним, вырастает биография писателя и человека. Отзывы и краткие воспоминания современников писателя дополняют картину.
Во второй части Достоевский говорит о жизни, человеке и мире по большей части устами своих героев. Эта часть построена как музыкальный контрапункт, подобный фугам Иоганна Себастьяна Баха. Чтобы воссоздать цельный, гармоничный мир Достоевского, необходимо отразить его во всем многоголосии, полифоничности и противоречивости, поэтому герои спорят друг с другом, отражая крайние позиции в их отношении к человеку, но в эту полифонию включается голос и самого Достоевского в виде цитат из его «Дневника писателя», писем, записных книжек, черновиков к произведениям. Этот авторский голос призван уравновесить полярные мнения и дать читателю якорь надежды, веры и любви в океане страдания и ненависти.
Таким образом, цитаты из устных и письменных высказываний знаменитого писателя, с одной стороны, иллюстрируют яркие факты его биографии, а с другой — вовлекают читателя в глубокий и напряженный философский и нравственный диалог с миром героев «Записок из подполья», «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов», «Подростка» и «Братьев Карамазовых».
Музыкальный принцип выстраивания цитат из произведений Достоевского в качестве ведущей темы и вариаций к ней также, на наш взгляд, естественно и органично выражает художественное мышление Достоевского, близкое к музыкальному. Достоевский точно композитор, только словесный композитор идей и образов: его произведения как будто рождаются из духа музыки. Пять его знаменитых романов («пятикнижие») по замыслу, масштабу и исполнению едва ли уступают вагнеровскому «Кольцу Нибелунгов», а в литературе, пожалуй, намного его превосходят.
Мне хотелось выстроить книгу в духе и стиле Достоевского — как волнующий и задушевный разговор писателя с читателем. В книге звучат как известные и малоизвестные слова знаменитых персонажей Достоевского, так и его собственные высказывания о человеке и мире. Эти цитаты рисуют особенный и неповторимый духовный облик писателя-пророка и тайновидца человеческих душ. Монтаж из ярких цитат сопровождается лаконичным комментарием автора книги. Пояснения помогут читателю разобраться в хитросплетениях жизненных ситуаций, составляющих биографию Достоевского, а также понять сущность, смысл, контекст цитируемых высказываний его персонажей. Авторские комментарии, кроме того, знакомят читателя с историей создания и публикации главных его произведений, в особенности знаменитого «пятикнижия» (романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»).
Нумерация цитат сплошная. Цитаты сверены и даются по Полному академическому собранию сочинений Ф. М. Достоевского в 30 томах [Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом)] под редакцией академика Г. М. Фридлендера.
Книга обращена ко всем любителям творчества Ф. М. Достоевского и в особенности будет полезна учащимся старших классов, учителям литературы, студентам и преподавателям гуманитарных вузов.
А. Галкин
Часть первая
Жизнь: «…через большое горнило сомнений моя осанна прошла…»

«И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла, как говорит у меня же, в том же романе, черт»**
[дневник Ф. М. Достоевского 1881 г., полемические возражения критику Кавелину].
«Главный вопрос <…> тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, — существование божие»
[письмо Ф. М. Достоевского А. Н. Майкову 25 марта (6 апреля) 1870 г. из Дрездена].
Глава 1
Родом из детства: «…дух ли светлый облобызал меня…»

«Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь».
«Знайте же, что ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение»
[речь Алеши Карамазова у камня. Роман «Братья Карамазовы». Эпилог (15, 195)].
В биографии Ф. М. Достоевского О. Ф. Миллера излагается эпизод из раннего детства Достоевского, хорошо ему запомнившийся, как няня привела его, трехлетнего, в гостиную, где были гости, заставила встать на колени перед образами и прочесть молитву, которую он обычно читал перед сном: «Все упование, Господи, на Тебя возлагаю. Матерь Божия, сохрани мя под кровом Своим». Гости обласкали маленького Достоевского и говорили: «Ах, какой умный мальчик!» Эту молитву Достоевский читал всю жизнь сам и напутствовал ею перед сном своих детей***.
«Но и до того еще как читать научился, помню, как в первый раз посетило меня некоторое проникновение духовное, еще восьми лет от роду. Повела матушка меня одного (не помню, где был тогда брат) во храм господень, в страстную неделю в понедельник к обедне. День был ясный, и я, вспоминая теперь, точно вижу вновь, как возносился из кадила фимиам и тихо восходил вверх, а сверху в куполе, в узенькое окошечко, так и льются на нас в церковь божьи лучи, и, восходя к ним волнами, как бы таял в них фимиам. Смотрел я умиленно, и в первый раз от роду принял я тогда в душу первое семя слова божия осмысленно»
[слова старца Зосимы. Роман «Братья Карамазовы». Книга шестая. О священном писании в жизни отца Зосимы (14, 264)].
«…А вас, мама, помню ясно только в одном мгновении, когда меня в тамошней церкви раз причащали и вы приподняли меня принять Дары и поцеловать чашу; это летом было, и голубь пролетел насквозь через купол, из окна в окно…
— Господи! Это все так и было, — сплеснула мать руками, — и голубочка того как есть помню. Ты перед самой чашей встрепенулся и кричишь: «Голубок, голубок!»
[роман «Подросток». Часть 1, гл. 6 (13, 92)].
Ф. М. Достоевский рассказывал о себе в раннем детстве своему биографу: «По старшинству я родился вторым, был прыток, любознателен, настойчив в этой любознательности, прямо-таки надоедлив — и даровит. Года в три, что ли, выдумал слагать сказки, да еще мудреные, пожалуй, замысловатые, либо страшные, либо с оттенком шутливости»****. Мать писателя возила сына в Троице-Сергиеву лавру. Его брат А. М. Достоевский в своих «Воспоминаниях» отмечал горячий и пылкий нрав брата. Отец будущего писателя М. А. Достоевский с тревогой повторял сыну: «Эй, Федя, уймись, не сдобровать тебе… быть тебе под красной шапкой!» ***** …Слезы ли чьи, мать ли моя умолила бога, дух ли светлый облобызал меня в то мгновение — не знаю, но черт был побежден.
«Митя хоть и заговорил сурово, но видимо еще более стал стараться не забыть и не упустить ни одной черточки из передаваемого. Он рассказал, как он перескочил через забор в сад отца, как шел до окна и обо всем наконец, что было под окном. <…> Когда же рассказал, как он решился наконец дать отцу знак, что пришла Грушенька и чтобы тот отворил окно, то прокурор и следователь совсем не обратили внимания на слово “знак”, как бы не поняв вовсе, какое значение имеет тут это слово, так что Митя это даже заметил. Дойдя наконец до того мгновения, когда, увидев высунувшегося из окна отца, он вскипел ненавистью и выхватил из кармана пестик, он вдруг как бы нарочно остановился. Он сидел и глядел в стену и знал, что те так и впились в него глазами.
— Ну-с, — сказал следователь, — вы выхватили оружие и… и что же произошло затем?
— Затем? А затем убил… хватил его в темя и раскроил ему череп… Ведь так по-вашему, так! — засверкал он вдруг глазами. Весь потухший было гнев его вдруг поднялся в его душе с необычайною силой.
— По-нашему, — переговорил Николай Парфенович, — ну, а по-вашему?
Митя опустил глаза и долго молчал.
— По-моему, господа, по-моему, вот как было, — тихо заговорил он: — слезы ли чьи, мать ли моя умолила бога, дух ли светлый облобызал меня в то мгновение — не знаю, но черт был побежден. Я бросился от окна и побежал к забору… Отец испугался, и в первый раз тут меня рассмотрел, вскрикнул и отскочил от окна, — я это очень помню. А я через сад к забору… вот тут-то и настиг меня Григорий, когда уже я сидел на заборе…»
[рассказ Мити Карамазова во время следствия о том, как он не убил отца Федора Павловича Карамазова. Роман «Братья Карамазовы». Книга девятая, гл. V «Третье мытарство» (14, 425–426)].
Спасительные детские воспоминания, в том числе память о любимой умершей матери, стали тем глубинным жизненным материалом, который Достоевский художественно переработал и воплотил в ключевой сюжетной сцене своего последнего романа «Братья Карамазовы». Любимая мать Ф. М. Достоевского Мария Федоровна скончалась в 37 лет, в один год с гибелью А. С. Пушкина, оставив на попечение мужа семерых детей. Братья Достоевские, Федор и Михаил, переживали смерть поэта как семейную трагедию. А. М. Достоевский вспоминал, как Федор, которому в то время шел шестнадцатый год, не раз повторял брату Михаилу, что «ежели бы у нас не было семейного траура, то он просил бы отца носить траур по Пушкину» ******. Ф. М. Достоевский так остро переживал эту двойную утрату, что перед отъездом в Петербург у него открылась горловая болезнь, на время лишившая его голоса.
Мужик Марей и русский народ-богоносец
«Уж я тебя волку не дам! — прибавил он, все так же матерински мне улыбаясь, — ну, Христос с тобой, ну ступай, — и он перекрестил меня рукой и сам перекрестился <…> и только бог, может быть, видел сверху, каким глубоким и просвещенным человеческим чувством и какою тонкою, почти женственною нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, зверски невежественного крепостного русского мужика…»
«Во все мои четыре года каторги я вспоминал беспрерывно все мое прошедшее и, кажется, в воспоминаниях пережил всю мою прежнюю жизнь снова. Эти воспоминания вставали сами, я редко вызывал их по своей воле. Начиналось с какой-нибудь точки, черты, иногда неприметной, и потом мало-помалу вырастало в цельную картину, в какое-нибудь сильное и цельное впечатление. Я анализировал эти впечатления, придавал новые черты уже давно прожитому и, главное, поправлял его, поправлял беспрерывно, в этом состояла вся забава моя. На этот раз мне вдруг припомнилось почему-то одно незаметное мгновение из моего первого детства, когда мне было всего девять лет от роду, — мгновенье, казалось бы, мною совершенно забытое; но я особенно любил тогда воспоминания из самого первого моего детства. Мне припомнился август месяц в нашей деревне: день сухой и ясный, но несколько холодный и ветреный; лето на исходе, и скоро надо ехать в Москву опять скучать всю зиму за французскими уроками, и мне так жалко покидать деревню. Я прошел за гумна и, спустившись в овраг, поднялся в Лоск — так назывался у нас густой кустарник по ту сторону оврага до самой рощи. И вот я забился гуще в кусты и слышу, как недалеко, шагах в тридцати, на поляне, одиноко пашет мужик. Я знаю, что он пашет круто в гору и лошадь идет трудно, и до меня изредка долетает его окрик: “Ну-ну!” Я почти всех наших мужиков знаю, но не знаю, который это теперь пашет, да мне и все равно, я весь погружен в мое дело, я тоже занят: я выламываю себе ореховый хлыст, чтоб стегать им лягушек; хлысты из орешника так красивы и так непрочны, куда против березовых. Занимают меня тоже букашки и жучки, я их сбираю, есть очень нарядные; люблю я тоже маленьких, проворных, красно-желтых ящериц, с черными пятнышками, но змеек боюсь. Впрочем, змейки попадаются гораздо реже ящериц. Грибов тут мало; за грибами надо идти в березняк, и я собираюсь отправиться. И ничего в жизни я так не любил, как лес с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, ежиками и белками, с его столь любимым мною сырым запахом перетлевших листьев. И теперь даже, когда я пишу это, мне так и послышался запах нашего деревенского березняка: впечатления эти остаются на всю жизнь. Вдруг, среди глубокой тишины, я ясно и отчетливо услышал крик: “Волк бежит!” Я вскрикнул и вне себя от испуга, крича в голос, выбежал на поляну, прямо на пашущего мужика.
Это был наш мужик Марей. Не знаю, есть ли такое имя, но его все звали Мареем, — мужик лет пятидесяти, плотный, довольно рослый, с сильною проседью в темно-русой окладистой бороде. Я знал его, но до того никогда почти не случалось мне заговорить с ним. Он даже остановил кобыленку, заслышав крик мой, и когда я, разбежавшись, уцепился одной рукой за его соху, а другою за его рукав, то он разглядел мой испуг.
— Волк бежит! — прокричал я, задыхаясь.
Он вскинул голову и невольно огляделся кругом, на мгновенье почти мне поверив.
— Где волк?
— Закричал… Кто-то закричал сейчас: “Волк бежит”… — пролепетал я.
— Что ты, что ты, какой волк, померещилось; вишь! Какому тут волку быть! — бормотал он, ободряя меня. Но я весь трясся и еще крепче уцепился за его зипун, и, должно быть, был очень бледен. Он смотрел на меня с беспокойною улыбкою, видимо боясь и тревожась за меня.
— Ишь ведь испужался, ай-ай! — качал он головой. — Полно, родный. Ишь, малец, ай!
Он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке.
— Ну, полно же, ну, Христос с тобой, окстись. — Но я не крестился; углы губ моих вздрагивали, и, кажется, это особенно его поразило. Он протянул тихонько свой толстый с черным ногтем, запачканный в земле палец и тихонько дотронулся до вспрыгивавших моих губ.
— Ишь ведь, ай, — улыбнулся он мне какою-то материнскою и длинною улыбкой, — господи, да что это, ишь ведь, ай, ай!
Я понял наконец, что волка нет и что мне крик “Волк бежит!” померещился. Крик был, впрочем, такой ясный и отчетливый, но такие крики (не об одних волках) мне уже раз или два и прежде мерещились, и я знал про то. (Потом, с детством, эти галлюцинации прошли.)
— Ну, я пойду, — сказал я, вопросительно и робко смотря на него.
— Ну и ступай, а я те вослед посмотрю. Уж я тебя волку не дам! — прибавил он, все так же матерински мне улыбаясь, — ну, Христос с тобой, ну ступай, — и он перекрестил меня рукой и сам перекрестился. Я пошел, оглядываясь назад почти каждые десять шагов. Марей, пока я шел, все стоял с своей кобыленкой и смотрел мне вслед, каждый раз кивая мне головой, когда я оглядывался. Мне, признаться, было немножко перед ним стыдно, что я так испугался, но шел я, все еще очень побаиваясь волка, пока не поднялся на косогор оврага, до первой риги; тут испуг соскочил совсем, и вдруг откуда ни возьмись бросилась ко мне наша дворовая собака Волчок. С Волчком-то я уж вполне ободрился и обернулся в последний раз к Марею; лица его я уже не мог разглядеть ясно, но чувствовал, что он все точно так же мне ласково улыбается и кивает головой. Я махнул ему рукой, он махнул мне тоже и тронул кобыленку.
— Ну-ну! — послышался опять отдаленный окрик его, и кобыленка потянула опять свою соху.
Все это мне разом припомнилось, не знаю почему, но с удивительною точностью в подробностях. Я вдруг очнулся и присел на нарах и, помню, еще застал на лице моем тихую улыбку воспоминания. С минуту еще я продолжал припоминать.
Я тогда, придя домой от Марея, никому не рассказал о моем “приключении”. Да и какое это было приключение? Да и об Марее я тогда очень скоро забыл. Встречаясь с ним потом изредка, я никогда даже с ним не заговаривал, не только про волка, да и ни об чем, и вдруг теперь, двадцать лет спустя, в Сибири, припомнил всю эту встречу с такою ясностью, до самой последней черты. Значит, залегла же она в душе моей неприметно, сама собой и без воли моей, и вдруг припомнилась тогда, когда было надо; припомнилась эта нежная, материнская улыбка бедного крепостного мужика, его кресты, его покачиванье головой: “Ишь ведь, испужался малец!” И особенно этот толстый его, запачканный в земле палец, которым он тихо и с робкою нежностью прикоснулся к вздрагивающим губам моим. Конечно, всякий бы ободрил ребенка, но тут в этой уединенной встрече случилось как бы что-то совсем другое, и если б я был собственным его сыном, он не мог бы посмотреть на меня сияющим более светлою любовью взглядом, а кто его заставлял? Был он собственный крепостной наш мужик, а я все же его барчонок; никто бы не узнал, как он ласкал меня, и не наградил за то. Любил он, что ли, так уж очень маленьких детей? Такие бывают. Встреча была уединенная, в пустом поле, и только бог, может быть, видел сверху, каким глубоким и просвещенным человеческим чувством и какою тонкою, почти женственною нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, зверски невежественного крепостного русского мужика, еще и не ждавшего, не гадавшего тогда о своей свободе. Скажите, не это ли разумел Константин Аксаков, говоря про высокое образование народа нашего?
И вот, когда я сошел с нар и огляделся кругом, помню, я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом и что вдруг, каким-то чудом, исчезла совсем всякая ненависть и злоба в сердце моем. Я пошел, вглядываясь в встречавшиеся лица. Этот обритый и шельмованный мужик, с клеймами на лице и хмельной, орущий свою пьяную сиплую песню, ведь это тоже, может быть, тот же самый Марей: ведь я же не могу заглянуть в его сердце»
[рассказ «Мужик Марей». «Дневник писателя», 1876 г., февраль (22, 47–49)].
Это детское впечатление Ф. М. Достоевского впоследствии станет основой его философии «почвенничества», а также отразится в его позднейших романах, особенно в романе «Бесы», где идею о русском народе-богоносце будет излагать Шатов.
«Единый народ-“богоносец” — это русский народ…»
«Если великий народ не верует, что в нем одном истина (именно в одном и именно исключительно), если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас же перестает быть великим народом и тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ. Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою. Кто теряет эту веру, тот уже не народ. Но истина одна, а стало быть, только единый из народов и может иметь бога истинного, хотя бы остальные народы и имели своих особых и великих богов. Единый народ-“богоносец” — это русский народ…»
[слова Шатова в разговоре со Ставрогиным. Роман «Бесы». Часть 2, гл. 1 (10, 200)].
«Всю жизнь это воспоминание меня преследует…»
«…Какой-то мерзавец, в пьяном виде, изнасиловал эту девочку, и она умерла, истекая кровью… Меня послали за отцом в другой флигель больницы, прибежал отец, но было уже поздно. Всю жизнь это воспоминание меня преследует, как самое ужасное преступление, как самый страшный грех, для которого прощения нет и быть не может, и этим самым страшным преступлением я казнил Ставрогина в “Бесах”»
(устный рассказ Ф. М. Достоевского в салоне А. П. Философовой в конце 1870-х гг.*******).
Речь идет об эпизоде из детства писателя, когда ему не было еще десяти лет. В московской Мариинской больнице на Божедомке, где врачом служил отец Достоевского, на больничном дворе будущий писатель много раз играл с девочкой-сверстницей, дочкой кучера или повара. «Это был хрупкий, грациозный ребенок лет девяти, — рассказывал Достоевский. — Когда она видела цветок, пробивающийся между камней, то всегда говорила: “Посмотри, какой красивый, какой добрый цветочек!”». Трагедия, свидетелем которой стал Достоевский-ребенок, ранила его душу так сильно, что в своих романах он неоднократно обращался к этому мучительному сюжету. В «Преступлении и наказании» Свидригайлову снится сон, в котором он видит растленную им девочку. В романе «Бесы», в главе «Исповедь Ставрогина», не вошедшей в основной текст романа, Достоевский рисует жестокую сцену, где обиженная Ставрогиным 10-летняя девочка Матреша грозит ему кулаком.
Мнимый друг Достоевского критик Н. Н. Страхов после смерти писателя в письме к Л. Н. Толстому оклеветал Достоевского в грехе насилия над ребенком, отождествив его со Свидригайловым и Ставрогиным. А. Г. Достоевская встала на защиту умершего мужа в своих «Воспоминаниях», опубликовав отдельную главу «Ответ Страхову». Жена Достоевского с негодованием писала: «Письмо Н. Н. Страхова возмутило меня до глубины души. Человек, десятки лет бывавший в нашей семье, испытавший со стороны моего мужа такое сердечное отношение, оказался лжецом, позволившим взвести на него такие гнусные клеветы! Было обидно за себя, за свою доверчивость, за то, что оба мы с мужем так обманулись в этом недостойном человеке»********.