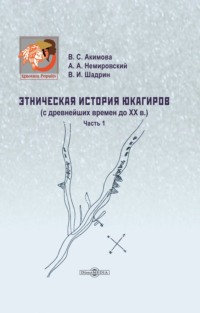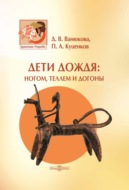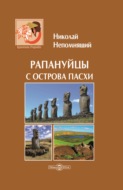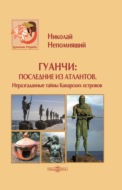Kitobni o'qish: «Этническая история юкагиров. С древнейших времен до ХХ в. Часть 1», sahifa 3
Обобщая вышесказанное можно предложить следующую этногенетическую реконструкцию.
Первый этап (IV–III тыс. до н. э.), характеризуется оформлением субстратов, сыгравшим ведущую роль в формировании юкагирского народа.
Первый субстрат – древнеуральский, выделившийся из общей массы уральской семьи в конце мезолита. Предки современных уральских народов в V–VI тыс. до н. э. проживали совместно, возможно еще в неразделенной урало-алтайской общности, по мнению одних, в районе Южной Сибири в предгорьях Саян, по мнению других, в центре Западной Сибири. Протоюкагиры были первой волной уральцев, ушедших на северо-восток не позднее V тыс. до н. э., причем их отделение от уральцев произошло раньше, чем деление уральской языковой семьи на финно-угорскую и самодийскую ветви.
Второй субстрат – прибайкальский, формировавшийся в районах, примыкавших к Байкалу, соотносимый с серовской культурой. В период III–II тыс. до н. э. он формируется в энеолитическую глазковскую культуру. Именно здесь возможно формировались те черты, которые определяют многие параллели с алтайскими народами и антропологически относились к монголоидам древнесибирской (байкальской) расы катангского типа.
Третий субстрат – палеосибирский, соотносимый с белькачинцами. Этот компонент связан с палеоазиатами и антропологически представлен монголоидами американоидного и арктических типов с небольшой палеосибирской примесью.
На втором этапе (II – середина I тыс. до н. э.) начинается формирование древних юкагиров при взаимодействии всех субстратов.
Древние уральцы предположительно приходят на территорию Якутии с бассейна Енисея и п-ова Таймыр через бассейны Вилюя и побережье Северного Ледовитого океана, вытесненные, вероятно, кетоязычными племенами.
Таким образом, на современной территории Центральной и Северо-Западной Якутии располагался «этноплавильный» котел, в котором шло формирование ымыяхтахской археологической культуры (преобладание уральского субстрата). Ввиду того, что данный процесс происходил неоднородно, разновременно и в различных соотношениях участвующих компонентов, шло формирование различных локальных вариантов ымыяхтахской культуры.
Постепенно к этому процессу подключаются древние прибайкальцы, проникающие в Центральную Якутию через бассейны Олекмы и Алдана и вступающие во взаимодействие со сформировавшейся культурой. О чем говорит генетическое родство ленской и прибайкальской культур. Идет формирование Усть-Мильской культуры (преобладание прибайкальского субстрата).
При этом часть прибайкальцев распространяется в Приамурье и на побережье Охотского моря, а часть белькачинцев, оттесненных на крайний северо-восток, приняли участие в формировании северо-восточных палеоазиатов (чукчей, ительменов).
Третий этап (середина I тыс. до н. э. – конец I тыс. н. э.) характеризуется процессами окончательного смешения с южным прибайкальским субстратом, оформление древних юкагиров и их этнических черт и началом эпохи великой тунгусской колонизации.
Северная группа древних юкагиров с преобладанием таймырского субстрата выходит на Чукотское побережье и участвует в формировании древнеберингоморской культуры, а часть переходит на Аляску и участвует в формировании культур Нортон и Ипиутак.
Основная часть древних юкагиров окончательно этнически оформилась и распространилась по всему северо-востоку Сибири.
В I пол. I тыс. н. э. начинается проникновение тунгусских племен, находящихся на более высоком уровне развития. Юкагиры вытесняются из Южной и Западной Якутии.
На четвёртом этапе (конец I тыс. н. э. – настоящее время) происходят этнические процессы ассимиляции юкагиров тунгусо-, тюрко- и русскоязычным населением, участие юкагиров в этногенезе эвенов, коряков, якутов, северных старожилов.
В конце I тыс. н. э. тунгусский клин окончательно разделяет юкагиров с уральской этнической общностью на северо-западе Якутии, оттеснив юкагиров на восток. Происходит разделение территории по этно-ландшафтным признакам, связанных с традиционными видами хозяйствованиями – пешие юкагиры с охотой и рыболовством проживают по берегам крупных рек и их притоков, а тунгусские племена распространяются в горно-таежной зоне, более пригодной для ведения оленеводства. На дальнем северо-востоке в результате ассимиляционных процессов между юкагирами и чукчами формируются коряки.
Сам юкагирский этнос из-за огромной территории проживания, различных географических и иных условий, а также взаимодействия с различными этническими группами крайне неоднороден и представлен отдельными племенными образованиями с отличиями не только в культуре, но и языке [Шадрин, 2008].
В нач. II тыс. н. э. начинается проникновение с юга тюркских племен, ассимилирующих юкагирские племена, проживающие в Центральной Якутии. В результате в сер. II тыс. в этих районах формируется палеоэтнографическая кулун-атахская культура якутов, основа нового якутского этноса.
К моменту прихода русских, в XV–XVII вв. на огромных контактных с тунгусами территориях идет формирование нового этноса – эвенов.
1.2. Вопросы ранней этнической истории юкагиров
1.2.1. Опорные точки и спорные промежутки этнической истории юкагиров
Зарождение и древнейшая история юкагирской этнической общности неотделимы от истории соответствующей языковой общности, то есть юкагирской языковой семьи. В настоящее время эта семья представлена двумя языками – тундренным и лесным юкагирскими, восходящими к некоторым из племенных языков юкагиров позднего средневековья, а через них, как выясняется лингвистическими методами – к праюкагирскому языку II тыс. до н. э. Распад этого языка, начавшийся к концу II тыс. до н. э., и дал в конечном счете ветви, к которым относятся современные тундренный и лесной языки. Однако юкагирская языковая общность в целом возникла намного раньше – как и многие другие языковые семьи Евразии, она существовала уже к концу мезолита.
Сто и более лет назад, когда языки юкагиров были почти неизучены, большинство ученых предполагало, что юкагирская языковая общность не связана никаким родством с уральскими и алтайскими языками и возникла в приполярных районах Северо-Востока Азии намного раньше, чем эти языки стали распространяться в Сибири. Однако в конце XX в. обнаружилось, что это не так: было неоспоримо доказано, что юкагирская семья языков наряду с уральской и алтайской (к последней относятся тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские и некоторые другие языки) принадлежит к ностратической макросемье языков, а точнее – к восточной ее части. Ностратическое языковое единство впервые сформировалось еще в конце палеолита где-то в юго-западной части Евразии, и оттуда ностратические языки очень рано (видимо, уже к концу 10-х тысячелетий до н. э.) распространились в широтном направлении на огромную территорию от Европы до Северо-Востока Азии и Тихого Океана [Напольских 2018]. В результате этого распространения, сопровождавшегося массовым многоэтапным смешением пришельцев с запада с местными племенами, возникли отдельные семьи ностратических языков, в том числе алтайская, уральская и юкагирская, занявшие почти всю восточную часть ностратоязычного пространства.
Лингвистами достаточно надежно выяснено и то, что юкагирская семья формировалась непосредственно к востоку от уральской и в течение длительного времени продолжала соседить с ее территорией с востока. Учитывая, что прародина уральской семьи твердо определяется как таежное пространство от Урала до Енисея [Напольских 1999, 2002], отсюда следует, что самая ранняя праюкагирская общность сформировалась где-то в пределах меридиональной полосы Енисея и регионов, примыкающих к ней с Востока (от Таймыра до Циркумбайкалья). Время этого формирования должно укладываться в пределы исхода палеолита – мезолита. Уточнение времени и места зарождения юкагирской общности внутри этих рамок оказывается уже предметом гипотез и дискуссий.
Одно из главных направлений таких споров касается соотношения юкагирской и уральской языковых семей внутри ностратической макросемьи. Схождения между ними бесспорны, но толкуются по-разному. По одной концепции, обоснованной прежде всего в работах И. Николаевой [Николаева 1988; Напольских 2018], уральская языковая семья имеет особо тесное генетическое родство с юкагирской, и эти две семьи являются плодами распада одного праязыкового пространства (пра-урало-юкагирского единства), существовавшего до них наряду с другими ностратическими праязыками, в том числе алтайским(-и). По другой точке зрения юкагирские языки генетически не ближе к уральским, чем к другим ностратическим языкам, а элементы, повышенно сближающие их с уральскими языками, являются плодами лишь ареальных контактов и заимствований, а не общности происхождения от одного праязыка внутри восточноностратического пространства. Дискуссии на эту тему продолжаются.
С нашей точки зрения, верна скорее именно первая концепция, тем более что в ее пользу можно привлечь и антропологический материал. Хотя прауральцы и юкагиры имеют разные расовые типы (для исторически известных и современных юкагиров характерен байкальский тип монголоидной расы, а для прауральцев и многих уральских народов – особый уральский расовый тип, отличный от монголоидной расы), некоторые краниологические черты1 [Козинцев, Моисеев 1995; Моисеев 1999] и генетические маркеры (определенные типы Y-хромосомной гаплогруппы N, сформировавшейся в палеолите в Восточной Азии [Ilumäe et al. 2016]), объединяют юкагиров именно с рядом уральских народов, в то время как в соседних популяциях они не наблюдаются или наблюдаются в гораздо меньшей степени. Это, скорее всего, подразумевает наличие высокой доли общих физических предков именно у прауральцев и юкагиров, что хорошо согласуется с теорией о том, что некогда существовала и особая урало-юкагирская праязыковая общность.
См. в целом помещенную на с. 32 LLL схему, представляющую генеалогические древа уральской и юкагирской языковых семей (с учетом теории об их происхождении от особого пра-урало-юкагирского праязыкового единства внутри восточноностратического пространства. На схеме эта теория отражена пунктирными линиями).
Существенно, однако, что изложенное разногласие между лингвистами практически не сказывается на реконструкции этнической истории юкагиров. При обеих точках зрения остается в силе то, что прауральцы и праюкагиры – две восточноностратические общности примерно одного порядка, что территория юкагирской этноязыковой общности на древнейшем этапе ее существования непосредственно соседила с востока с ареалом прауральцев, причем соприкосновение ареалов этих общностей продолжалось еще долго, а формирование и древнейшая история обеих падают примерно на одни и те же тысячелетия. Спор о том, существовал ли на предыдущем этапе особый урало-юкагирский праязык, касается главным образом оценки степени генетической близости уральских и юкагирских языков по сравнению с прочими ностратическими языками. И при любой из таких оценок одинаково остается констатировать, что на базе пространства ностратоязычных племен, живших к исходу палеолита и далее от Урала до регионов справа от Енисея, сформировались две смежные восточноностратические этноязыковые общности: прауральская на большей части этого пространства, праюкагирская – на ее восточной (приенисейской / заенисейской) окраине. В сложении каждой из этих общностей принимали участие смешивающиеся друг с другом группы двух антропологических типов: носители т. н. древнеуральской расы2 (имеющей некоторые сходные черты с большой европеоиодной расой) и их восточные соседи – низколицые периферийные монголоиды ранней предковой формы катангского подтипа байкальской малой раcы3 (разновидность большой монголоидной расы). В результате этого смешения у носителей прауральских и праюкагирских языков и возникли общие антропологические черты, следы которых и сейчас сохраняются у большинства уралоязычных народов с одной стороны, и юкагиров, с другой [Напольских 1999].

Cхема 1. Уральская и юкагирская языковые семьи4.
Примечания к схеме:
1. Даты, проставленные при точках разделения языков, показывают вероятную датировку их расхождения. Если в науке предлагаются существенно разные датировки того или иного расхождения языков, они приводятся на схеме через косую черту: «1500/500 до н. э.» и т. д.
2. Датировки расхождения языков «таким-то годом» носят, разумеется, условный характер: реальный процесс этого разделения, т. е. превращения еще взаимопонятных своим носителям диалектов в уже взаимно-непонятные им языки, растянут во времени и может занимать и века.
3. Генеалогическое древо на схеме включает только живые или известные по письменным источникам языки, а также их языки-предки. Ветви тех же языков, которые, вероятно, некогда существовали, но потом вымерли, оставшись нам неизвестными, на схеме не отражены.
4. Из наречий юкагирских племен XVII в. омокское ближе к тундренному юкагирскому языку, происходящему от языка племени алайи, чем к юкагирскому колымскому языку, происходящему от языка племени когимцев, а чуванское – наоборот [Nikolaeva, 2008]; наречие племени шоромба, как видно из самого его названия [ср. колымск. шоромо «человек»], также должно было быть близкородственно именно колымскому, а не тундренному. Таким образом, можно говорить как минимум о двух группах юкагирских наречий XVII в., от одной из которых к концу XIX в. уцелел колымский язык, а от другой – тундренный [ср. Курилов, 2003: 53 сл.]. Носители большинства наречий одной из этих групп и в XVII в. едва ли могли бы понять носителей наречий второй группы без перевода, учитывая глубину и давность их расхождения по лексике (см. ниже). Однако насколько взаимно-понятны или непонятны были племенные наречия внутри каждой из этих групп, т. е. следует ли называть их диалектами или языками, судить трудно. На схеме они условно называются языками.
Итак, древнейшими этноязыковыми предками5 юкагиров суждено было стать каким-то восточным племенам ностратоязычного пространства от Урала до правобережий Енисея; в формировании этих племен приняли участие прежде всего вышеупомянутые низколицые монголоидные группы (исконно неностратические по языку), но также и носители древнеуральского антропологического типа (с их частично близкими к европеоиодным чертами). В итоге в современных юкагирских языках есть субстрат неуральского и неалтайского характера [Николаева, 2005: 500], то есть субстрат языка более раннего, неностратического населения Сибири, а по антропологическому облику юкагиры монголоидны. Таким образом, суть древнейших этапов праюкагирского этногенеза сводилась к тому, что группа восточностратических пришельцев с запада смешалась в несколько этапов с неностратическими монголоидными аборигенами Сибири, сформировав (окончательно – уже на территории Восточной Сибири) праюкагирскую по языку и монголоидную по антропологическому облику общность, причем в праюкагирский язык вошел аборигенный языковой субстрат.
Такова достаточно твердо устанавливаемая по данным лингвистики и антропологии начальная точка отсчета этноистории юкагиров.
Следующим надежно выявленным фактом языковой эволюции юкагиров является разделение юкагирских диалектов (или значительной их части) на две ветви, давшие в итоге одна – современный тундренный (североюкагирский, вадульский), а другая – современный колымский (лесной, южноюкагирский, одульский) юкагирские языки. Ниже мы так и будем называть эти ветви северноюкагирской, или вадульской, и южноюкагирской, или одульской. Оговорим, что ранее нередко предполагалось, что некоторые вымершие юкагирские наречия, зафиксированные исследователями XVIII–XIX вв. (омокское, чуванское) были особыми языками, равноудаленными от тундренного и колымского. Позднее, однако, Г. Н. Курилов предположил, что эти наречия также принадлежали к вадульской либо одульской ветвям [Курилов, 2003: 53–54, 62–63]. Исследование, проведенное И. Николаевой, фактически показало, что это действительно так: чуванский язык оказался существенно ближе к колымскому, чем к тундренному, а омокский, наоборот, – к тундренному, чем к лесному [Nikolaeva, 2008]. Иными словами, можно считать, что чуванский и колымский принадлежат к одной (ныне представленной колымским), «одульской» ветви юкагирских языков, а омокский и тундренный – к другой (ныне представленной тундренным), «вадульской» их ветви (как отмечает и М. А. Живлов).
При этом степень расхождения тундренного и колымского языков по лексике (даже помимо внешних заимствований в каждый из них) так велика, что расхождение между включающими их вадульской и одульской ветвями должно было начаться еще за много веков до русской колонизации Сибири. Однако до недавнего времени датировка начала этого расхождения оставалась неопределенной. Не выявлялась с уверенностью и территория, на которой обособлялись пра-вадульские и пра-одульские диалекты; неизвестно и то, существовали ли, помимо них, еще какие-либо ветви юкагирских диалектов (не давшие доживших до настоящего времени языков). Таким образом, это обособление может быть уверенно выявлено как языковой факт, но о его исторических обстоятельствах остается строить гипотезы.
Еще один известный факт, способный влиять на историю юкагиров, но не имеющий пока определенной датировки – это выдвижение на Енисей племен так называемой енисейской языковой семьи (входит в сино-кавказскую макросемью, назывемую также дене-кавказской), которые в средневековье расселялись полосой от Саян к Енисею и по Енисею, отледяя почти весь уралоязычный ареал от территорий Восточной Сибири, где располагались ареалы древних юкагиров. Не исключено, что это выдвижение енисейскоязычных племен создало «клин» между ареалами формирования прауральцев и праюкагиров и этим способствовало обособлению ностратических языков этих ареалов в две соответствующие языковые семьи – уральскую и юкагирскую. Однако судить об этом с определенностью невозможно, пока неизвестно, действительно ли выдвижение на север енисейского «клина» по восточным рубежам территории, известной нам как прауральская, предшествовало окончательному сложению уральской и юкагирской языковых семей, или оно происходило позже.
На фоне всех этих неопределенностей вторым после начального надежно устанавливаемым звеном этнотерриториальной истории юкагиров является уже ситуация начала – середины II тыс. н. э. Как известно, русские источники застают юкагиров (в составе 13 племен) в XVII в. на пространствах от Лены до Анадыря [Долгих, 1960: 379–443]. Однако этнографические наблюдения, предания нганасан [Долгих, 1952] и якутов [Эргис, 1960; Константинов, 2003; Бравина, Петров, 2018а, 2018б] и особенно данные топонимки, прежде всего гидронимии [Комаров, 1990; Немировский, 2019; Бурыкин, 2001]6, доказывают, что тот приполярный ареал, на котором юкагиров застала русская колонизация, сложился лишь в результате тунгусского расселения в течение ближайших предыдущих веков, а до того юкагиры занимали также обширные пространства к югу от Таймыра (восточнее северных самодийцев и енисейцев, между Леной и Енисеем) и бóльшую часть бассейна Лены.
Итак, надежно устанавливаются начальная (пребывание ностратоязычных этноязыковых предков юкагиров где-то при восточной границе прауральского ареала, обособление их на этой территории как отдельной этноязыковой общности, образование их языками особой юкагирской языковой семьи – очевидно, не позже мезолита) и поздняя (II тыс. н. э.: юкагирский ареал на территории большей части Якутии и некоторых смежных регионов, позднее – на территории от Лены до Анадыря) фазы этноистории юкагиров (см. карту 1 на стр. 32). Насчитывающий более пяти тысяч лет промежуток между этими фазами остается предметом дискуссий. Бесспорно лишь то, что в этом промежутке произошла цепь тех самых переселений и взаимодействий, которые привели юкагирские языки с их западной (енисейской или близкой к Енисею с востока) прародины на территорию Якутии, и что именно в ходе этих процесов завершился этногенез исторических юкагиров. Конкретный же ход и обстоятельства этих переселений остается предметом гипотез, в которых специалисты пытаются сопрягать археологический, этнографический, лингвистический и, наконец, антропологический материал. Правда, последний в свете выявления ностратической принадлежности юкагирской языковой семьи утратил придававшееся ему ранее значение для реконструкции этнической истории юкагиров. До этого выявления можно было гипотетически надеяться, что останки, обнаруживающие специфическое антропологическое сходство с современными юкагирами, и принадлежат этническим (или хотя бы физческим) предкам юкагиров. Однако, как говорилось выше, исходные этноязыковые предки юкагиров вышли из ностратоязычных пространств между Уралом и правобереждем Енисея, и с какого-то момента должны были быть носителями черт древнеуральского и низколицего периферийно-монголоидного антропологических типов – а в итоге юкагиры занимали территории от Лены до Анадыря и были носителями байкальского монголоидного типа. Иными словами, этноязыковые предки юкагиров, продвигаясь со своей западносибирско-енисейской прародины на Северо-Восток Азии, за сотни и тысячи лет этого продвижения вбирали в свой состав представителей местных племен и в итоге этого смешения доминирующим антропологическим типом юкагиров стал байкальский, который они «получили» от принявших участие в их этногенезе местных, ранее неюкагироязычных племен, смешавшихся с их этноязыковыми предками. Это, в свою очередь, значит, что любой древний сибирский носитель любого антропологического типа (сходного или несходного с позднейшим и современным юкагирским), живший в полосе, где тогда расселялись физические и этноязыковые предки юкагиров, – а где и в какое время они расселялись, в точности не известно, – мог входить в число этих предков, а мог и не входить7.
Bepul matn qismi tugad.