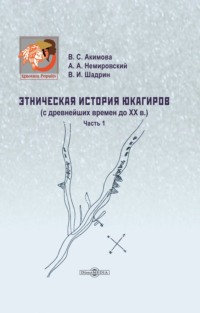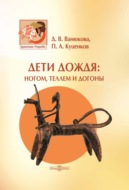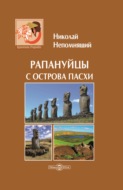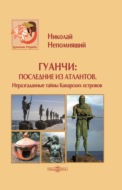Kitobni o'qish: «Этническая история юкагиров. С древнейших времен до ХХ в. Часть 1», sahifa 2
Очевидным является связь с угро-самодийцами и таком виде погребения, как захоронение покойника в сидячем положении. Оно практиковалось у нганасан [Грачева, 1983б, с. 113], селькупов [Пелих, 1972, с. 69], эскимосов [Диков, 1977, с. 160]. У юкагиров это сохранилось в обычае перед захоронением оставлять умершего в жилище в сидячем положении на несколько дней [Юкагиры, 1975: 88].
Известную близость обнаруживают юкагирские представления о реинкарнации души с верой юконских индейцев о переселении души умершего в своего тезку [Гурвич, 1981: 125]. Можно отметить параллели с мумифицированием покойников у алеутов, чукчей, азиатских эскимосов [Дьячков А. Е., 1993; Богораз В. Г., 1939; Лафлин У.С., 1981] с анатомированием трупов шаманов у юкагиров [Иохельсон, 1900: 110].
Совпадают представления о загробном мире у нганасан и у юкагиров. Так, вход в страну мертвых сторожит старуха с собакой, практиковались жертвоприношения и ритуальные захоронения собак [Иохельсон, 1900: 114; Долгих, 1952б: 79], подобные захоронения мы встречаем и на Аляске [Алексеев, 1967: 11].
Другим важным элементом, который может считаться этнообразующим, считается орнамент. И здесь необходимо отметить исследования С. В. Иванова. Он отметил, что юкагиры занимают особое место ввиду наличия пиктографического письма [Иванов, 1963: 531]. Юкагиры были мастерами резьбы по дереву, знали ажурный прием украшения берестяной посуды, который из северо-восточных народов были известны только юкагирам, корякам и ительменам [Иванов, 1963: 205]. Ставя особняком крестообразный орнамент юкагиров, С. В. Иванов отмечает, что он примыкает не к чукотскому и корякскому, а к восточно- и западносибирскому, являясь варианта последнего. Наиболее близко юкагирский орнамент, по мнению автора, стоит к орнаменту обских угров, для которых характерны такие элементы, как зигзаг, ломаные линии с отростками, треугольниками, крестообразные узоры и другие простые геометрические формы. Эти элементы в орнаменте обских угров сближают их с искусством селькупов и ненцев, с одной стороны, и с искусством родственных ненцам нганасан и энцев – с другой [Иванов, 1963: 53]. К такому же заключению пришла М. А. Кирьяк (Дикова), анализируя знаки на каменных плитках, обнаруженных на северо-западе Чукотки и относимых ею к древним протоюкагирам [Кирьяк (Дикова), 2002: 39].
Интересен грибной орнамент, широко распространенный на северо-востоке и связанный там с юкагирами. Возможно, он является основой изображения человека в юкагирском пиктографическом письме. Этот орнамент находит аналогии у селькупов [Хороших, Гемуев, 1980: 179], обских угров [Иванов, 1963: 108] и уходит корнями в глубокую древность [Диков Н. Н., 1971; Окладников А. П., Мартынов А. И., 1972]. По мнению Жуковой Л. Н., имеется определенная общность орнаментальных мотивов неолитических писаниц и знаков пиктографического письма юкагиров [Жукова, 1996: 23; 2005: 87].
Необходимо отметить и параллели в методах коллективной охоты на дикого северного оленя у нганасан и юкагиров и оленя карибу у инуитов [Попов А. А., 1948; Долгих Б. О., 1960; Расмуссен К., 1958; Врангель, 1948]. Обращает на себя целый комплекс общих черт культуры у самодийцев, юкагиров и эскимосов.
Неудивительно наличие многочисленных совпадений в фольклоре этих народов – наличие культовых героев (энецкий Диа, нганасанский Дяйбан-гуо, юкагирский Дябэгей), обучающих своих соплеменников жизни на Севере [Симченко, 1968: 196]; знаменитые мифы о Вороне [Мелетинский, 1981]; мифы о сотворении мира (гагара) [Напольских, 1991]. Кстати, фольклор пока недостаточно изучен и пока не использовался широко в этногенетичесских исследованиях.
Определенные данные для этногенетических реконструкций можно найти в исследованиях, посвященных традиционной одежде. Исследование В. Х. Иванова [Иванов, 2001] больше интересно для выявления особенного в юкагирской одежде и взаимовлияний с соседними народами, особенно с эвенами. Однако ученый также не проходит мимо юкагирской проблемы. Так, он указывает на совпадения в фольклоре юкагиров с приангарскими эвенками – сказки о мифическом старике Чульдьии Пулут у юкагиров и фольклорные сюжеты о мифическом существе Чулугды у эвенков, имеющих один глаз, одну ногу, иногда железное тело, и побеждаемых путем или толкания их в огонь или проваливания в замаскированную прорубь. И делает вывод: «Такое поразительное совпадение… невозможно объяснить случайностью или феноменом конвергенции. Это совпадение, а также распашной характер одежды свидетельствуют о южном происхождении юкагиров…» [Иванов, 2001: 112].
Серьезные исследования по юкагирской одежде проводит Л. Н. Жукова [Жукова, 1996, 1999, 2003, 2005], которая выделяет три периода формирования традиционного юкагирского костюма: дотунгусский, тунгусский и европейский [Жукова, 1999, 2005]. При этом в дотунгусском периоде она находит параллели с западносибирскими, алтайскими и тунгусскими народами. Сопоставляя одежду народов Севера, она обнаруживает, что «юкагирский женский комбинезон находит аналог среди женских комбинезонов ненцев» [Жукова, 2003].
Находка якутскими археологами на ымыяхтахской стоянке Белая Гора (бассейн р. Индигирка), бересты с изображением нагрудника [Эверстов, 1999, рис. 6], являющегося элементом традиционной распашной одежды эвенов, эвенков и юкагиров, вновь привлекла внимание исследователей к юкагирской проблеме. М. А. Кирьяк [2003: 210], соглашаясь с юкагирской привязкой археологического комплекса, отмечает удивительное сходство рисунка на бересте с композицией, выгравированной на камне с оз. Раучувагытгын. В попытке дешифровать раучванский рисунок она опирается на символику юкагирских передников. Однако, некоторые исследователи полагают, что передник на самом деле были заимствован юкагирами у тунгусов и, следовательно, не может рассматриваться только юкагирским [Слободин, 2005б: 590].
А. А. Бурыкин [2002] справедливо называет юкагиров пришельцами с юга. В. А. Туголуков (1985) также считал, что предки юкагиров до того, как они были ассимилированы древними тунгусами, жили значительно южнее нежели в XVII в., на Среднем и Нижнем Алдане, а также, вероятно, на Нижнем Вилюе. Вполне возможно, что движение тунгусов заставило юкагиров переселиться в более северные районы, но происходило это, скорее всего, во второй половине I тыс. н. э., или даже ближе к концу этого тысячелетия. Дальнейшее распространение тунгусов на Крайнем Северо-Востоке, особенно в первой половине II тыс. н. э., привело к отунгушиванию значительной части юкагиров. Начало массового расселения тунгусов по Восточной Сибири относят к XII в. Основная их масса направилась на север, в сторону Верхоянского хребта, здесь они появились в ХIV в. В Заполярье тунгусы начали просачиваться только со средины XVII в. Вторгшиеся в XIII–XIV вв. с юга якуты оттеснили тунгусов и юкагиров от Лены к северо-востоку.
Таким образом, в прошлом основная масса юкагиров проживала в таежной зоне. Предполагают, что они обитали к западу от Лены и в более южных районах Якутии и были вытеснены отсюда или ассимилированы тунгусскими племенами и предками якутов [Окладников, 1955: 289]. Толчком к переселению тунгусов по сибирской тайге на запад и восток от Байкала и на север по р. Лене, послужил выходу в Забайкалье тюркоязычных курыканов в IX в. Одновременно, по-видимому, началось и переселение к северу юкагирских племен. В соприкосновение с чукчами они пришли не ранее XIII–XIV вв. [История и культура чукчей…, 1987: 48]. Именно в это время они, вероятно, появляются в Приколымье. В нижнем течении р. Колымы юкагиры разъединили чукчей. Вскоре после прихода юкагиров начался процесс их постепенной физической, культурной и языковой ассимиляции чукчами, а затем в значительно большей степени тунгусами.
Время появления оленеводства у тундренных (нижнеколымских) юкагиров пока не ясно. Тот факт, что они были оленными, указывает на сравнительно позднее их формирование. Оленеводство у этой группы появилось, скорее всего, в XVII веке в результате заимствования от тунгусов [Помишин, 1990: 129]. Основой существования тундровых и лесных юкагиров были охота на диких оленей и рыболовство.
По мнению И. С. Гурвича, выделение у юкагиров каких-либо субстратных элементов при стертости юкагирской традиционной культуры весьма затруднительно, в то же время он полагает, что северо-восточные палеоазиаты в какой-то мере участвовали в формировании юкагирского этноса. В традиционной культуре юкагиров прослеживаются элементы, указывающие на связь с культурой этой общности. Из этого следует, что до появления юкагиров на Крайнем Северо-Востоке северо-восточные палеоазиаты уже обитали на этой территории [Этногенез народов Севера, 1980: 10, 151].
Основой большинства этногенетических концепций являются археологические данные.
По мнению А. Д. Степанова [1999: 148], ранний железный век Якутии представлял культуру с разнородными палеоазиатско-самодийскими, прототюркско-монгольским и прототунгусским субстратами. На ранних этапах они этнически не дифференцируются. Лишь к середине I тыс. н. э. в результате притока инокультурных групп из районов Забайкалья, Прибайкалья и Приамурья оформляется тенденция к их этническому разграничению. Картина этнических процессов гипотетична, показывает сложность культурного развития в этот период. А. Н. Алексеев [1996б] полагает, что даже на раннем этапе эпохи железа в Якутии проживали предки северо-восточных палеоазиатов (чукчей и коряков), поэтому вполне оправданным можно предположить существование этой общности, скорее всего, палеочукотской, и на Западной Чукотке.
А. Д. Степанов считает, что появление гребенчатой традиции в раннем железном веке Якутии (V в. до н. э. – V в. н. э.) свидетельствует о том, что ее население в этот период было уже юкагирским. По его мнению, в составе носителей культуры раннего железного века Якутии, принимавших участие в сложении юкагиров, можно выделить два субстратных компонента – уралоязычный и палеоазиатской (усть-мильцы и потомки ымыяхтахцев) [2003: 286].
Иное мнение высказывал С. И. Эверстов [2001: 369], который утверждает, что ымыяхтахская вафельная керамика, с ее характерными признаками (многослойность, технический внешний декор, реставрационные конические отверстия, примесь шамота, песка, растительных волокон, шерсти и волос в формовочной массе) является этническим индикатором именно древних юкагиров. На наш взгляд, одних только керамических сопоставлений для такого вывода мало. Керамика хотя и является довольно важным источником, но на ее развитие и распространение влияют факторы, далеко не всегда связанные с этническими переселениями.
А. Н. Алексеев полагает, что юкагиры не распространялись по всей Якутии, тем более по всей Восточной Сибири, в Якутии они появились не ранее бронзового века [1996б: 37]. По мнению В. Г. Аргунова (2002), в Северо-Западной Якутии юкагиры распространяются уже после эпохи палеометаллов, т. е. во второй половине I тыс. н. э.
В центр своих исследований М. А. Кирьяк (Дикова) положила юкагирскую проблему. Она считает, что на рубеже III–II тыс. до н. э. на базе прибайкальской глазковской культуры выделился этнический субстрат – ымыяхтахцы, распространившиеся на север. В первой половине I тыс. до н. э. ымыяхтахцы (протоюкагиры) вышли на Чукотское побережье Ледовитого океана и участвовали в формировании древнеберингоморской культуры, а часть их перешла на Аляску, где участвовали в формировании культур Нортон и Ипиутак. По ее мнению, в I тыс. н. э. от Вилюя до устья Анадыря формируются юкагирские племена, которые с конца I тыс. начинаются активно ассимилироваться соседями. Поэтому к XVII века юкагирские племена уже значительно утратили свою культуру [Кирьяк, 1993: 126].
Специально проблемами этногенеза юкагиров в свете археологических исследований занимается С. И. Эверстов (1992, 1998, 2002, 2005), проводивший археологические раскопки в бассейне р. Индигирки. На одном из многочисленных археологических памятниках данного региона в ымыяхтахском культурном слое им была обнаружены береста с изображением нагрудника, соотносимого с юкагирскими [Эверстов, 1992, 1999], остатки самой северной кузницы [Эверстов, 2005: 33], известно, что юкагиры были знакомы с употреблением железа, кости собак, соотносимых с юкагирским обычаем жертвоприношения собак, и т. д. В итоге он делает следующий вывод: «… Истоки культуры юкагирского народа уходят вглубь эпохи ранней бронзы, в этническую среду ымыяхтахцев Северо-Восточной Азии. …Ымыяхтахская вафельная керамика… является индикатором древних юкагиров, появившихся в Приленье во II тыс. до н. э. и распространившихся до арктического побережья» [Эверстов, 2005: 37]. Т. е. нижнеиндигирские (Белая Гора, Дениска-Юрюйэтэ, Сугуннаах) и нижнеленские (Букачан, Иччилях) памятники с археологическими остатками ымыяхтахской культуры принадлежат протоюкагирам. Причем нижнеиндигирские ымыяхтахцы-протоюкагиры, находясь в длительной изоляции от южных соседей, сохранили свой древний язык и культуру, а также и антропологический тип [Эверстов, 1998: 209]. Все эти выводы пока что основываются на двух датировках, относящимся к началу I тыс. н. э., и убежденности в сходстве ымыяхтахской культуры и культуры юкагиров XVII–XVIII вв. [Эверстов, 2002].
Интересны выводы А. Н. Алексеева (1987, 1994, 1996), который, соглашаясь с С. А. Федосеевой и Л. П. Хлобыстиным об участии ымыяхтахцев в генезисе нескольких современных народов Северо-Востока Сибири [Алексеев, 1996: 65], не дает точной этнической идентификации. Он выявляет существование ымыяхтахских традиций в бронзовом веке, раннем железе и палеоэтнографической кулун-атахской культуре якутов, который связывает скорее с палеоазиатским субстратом и который принял участие в образовании нового этноса – якутов.
Интересные исследования остальных ученых-археологов лишь только дополняют указанные выше точки зрения. Среди них необходимо отметить Н. Д. Архипова (1989), В. А. Кашина (1993, 2000), С. П. Кистенева (1980, 1990, 1992, 1993), В. И. Эртюкова (1990, 1992),
Большой интерес представляют комплексные теории.
Первую попытку комплексного подхода к вопросу происхождения юкагиров предпринял В. И. Иохельсон, поддержав американоидную теорию. Но она (теория) объективно оказалась неудачной, так как уровень накопленных научных знаний к тому времени оказался неудовлетворительным.
Бурный рост научных знаний в 50–60-х годах привёл к появлению новой комплексной теории. В 1964 году вышла работа В. Н. Чернецова «К вопросу об этническом субстрате в циркумполярной культуре», в которой он обосновывает свою концепцию о едином уральском субстрате, сложившемся в Зауралье и Западной Сибири в позднем мезолите и сыгравшем роль решающего компонента в формировании целого ряда этнических групп, в том числе и предков юкагиров, которые расселились в неолите далеко на восток. Свои построения он делает, в основном, на основе обобщения данных археологии и лингвистики.
По его мнению, прародина юкагиров располагается между Уралом и Енисеем, откуда в III тыс. до н. э. начался миграционный процесс на восток. В результате этого в бассейне рек Енисей и Ангара образуется метисный прибайкальский тип [Чернецов, 1964: 11]. Позднее ученый уточнил, что предки юкагиров проживали по правобережью нижнего Енисея и соседствовали с прасамоедскими группами среднего Енисея [Чернецов, 1971: 114], а на основе анализа наскальных изображений довёл влияние праюкагирской культуры до Северной Норвегии [Чернецов, 1969: 118].
Но теория единой циркумполярной культуры, предложенная В. Н. Чернецовым, была еще слаба, так как она базировалась только на археологических и лингвистических данных. Только в работах Ю. Б. Симченко эта теория получила комплексное обоснование и была признана в научном мире. Выделенный В. Н. Чернецовым единый этнический пласт он подразделяет на два родственных – восточный и западный, основываясь на работах Г. Н. Прокофьева. В западной ветви он видит обских угров, коми, саами, а в восточной – ненцев, энцев, нганасан, кетов, юкагиров, чукчей и коряков [Прокофьев, 1940: 74; Симченко, 1975: 155].
Ученый считает, что северо-восточные уральцы выделились из этого восточного пласта во время интерстадиала между периодами распада урало-алтайской общности и периодом максимальной консолидации общности. Это отделение предшествовало последующей дифференциации уральцев на финно-угров и самодийцев. Исследователь провел анализ климатической ситуации Евразии VIII–V тыс. до н. э., определивший более северное распространение древних уральцев на востоке [Симченко, 1975, 1976], сравнявшийся по широте в неолитическое время. Таким образом, Ю. Б. Симченко считает древнее неолитическое население от Енисея до Чукотки предками юкагиров [Симченко, 1968, 1975, 1976].
Но и эта стройная концепция имела ряд слабостей. Во-первых, этническую идентификацию археологических культур большинство считает возможным производить только с позднего неолита. Во-вторых, эта теория не подтверждается антропологическими данными [Алексеев В. П., 1975]. В-третьих, в попытке нивелирования археологических культур огромного пространства от Енисея до Чукотки были проигнорированы серьёзные различия в них [Хлобыстин Л. П., 1982]. Всё вышесказанное и послужило причиной того, что теория единой циркумполярной теории была быстро отвергнута учеными.
Интересную этногенетическую реконструкцию провела М. А. Кирьяк (1993). На рубеже III–II тыс. до н. э. на базе глазковской культуры выделяется этнический субстрат, окончательно оформившийся в районе Средней Лены во II тыс. до н. э. как ымыяхтахская культура. Этот субстрат быстро распространяется по северо-востоку Сибири, вплоть до Колымы, оттеснив палеоазиатов (чукчей, коряков, ительменов). Чуть позже, в сер. I тыс. до н. э. он выходит на Чукотское побережье и участвует в формировании древнеберингоморской культуры, а часть переходит на Американский континент и участвует в формировании культур Нортон и Ипиутак. В течение I тыс. на огромной территории от Вилюя до Анадыря на базе этого субстрата идет формирование юкагирских племен. С конца I тыс. начинаются активные ассимиляционные процессы, связанные с тунгусской колонизацией и контактами с соседними народами. В результате которых, русские в XVII в. обнаруживают мозаику юкагирских племен, частично утративших свою культуру [Кирьяк, 1993: 126].
Последним серьезным исследованием в этом направлении стала работа А. И. Гоголева по этнической истории народов Якутии. Начало юкагирского этногенеза он связывает со временем становления циркумполярной культyры неолитических охотников на дикого оленя, берущего начало в позднемезолитическое время на Таймырском полуострове и сопредельных районах, связанных со сложением древнеуральской основы юкагиров. Предположительно, население в мезолите и в раннем неолите в центральных и северных районах Якутии, принимавшее участие в формировании северо-восточных палеоазиатов, прежде всего, предков чукчей и коряков, проживало разбросано. В развитом неолите Енисейско-Ленское междуречье было населено монголоидами древнесибирской (байкальской) расы катангского типа (антропологические данные могильника Туой-Хайа в верховьях Вилюя). Хангаласское, одно из Куллатинских, Оннеское и Джикимдинское погребения по антропологической характеристике отнесены к байкальской малой групповой расе. В остальных предполагается преобладание комплекса байкальской. Верховье Приамурья в неолите характеризуется наличием той же байкальской расы.
В позднем неолите, во II тыс. до н. э. на территории от низовьев Лены на западе и Чукотки на востоке лежала область, населенная монголоидами американоидного и арктических типов с небольшой палеосибирской примесью. Они в дальнейшем, в эпоху пережиточного неолита и палеометаллов, приняли участие в формировании северо-восточных палеоазиатов. Территорией становления древнеюкагирских племен в позднем неолите и ранней бронзе являлись, по всей видимости, районы центральной и северо-западной Якутии. А. П. Окладников выявил связи между населением Скандинавии и Северо-Восточной Европы неолита и бронзы с неолитическими племенами Якутии, т. е. контакты, наблюдаемые среди древнего уралоязычного населения Евразийского Севера. В этот круг вписывались и древнейшие предки юкагиров. Усть-мильская традиция наложила определенную печать в формировании юкагирского этноса или юкагироязычных племен и их культуры [Гоголев, 2004: 32–34].
Для окончательного решения проблемы необходимо произвести этническую идентификацию археологических культур, главного недостающего звена в этногенетических построениях. Здесь мы видим две точки зрения: первая соотносит с юкагирами ымыяхтахскую культуру, вторая – усть-мильскую культуру бронзового века. Существует и третья точка зрения, которая соединяет эти взгляды [Шадрин, 2008].