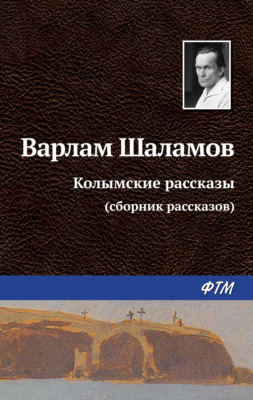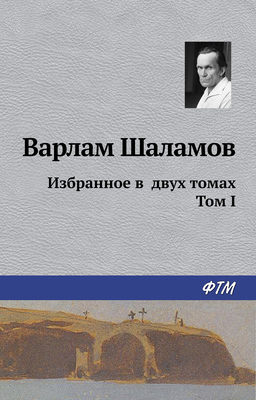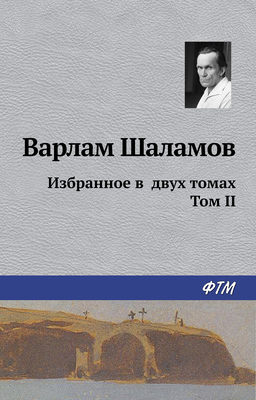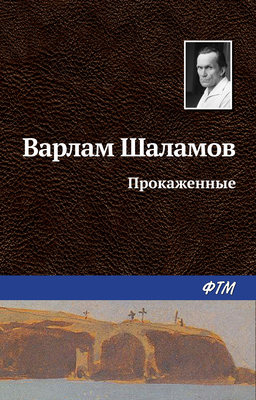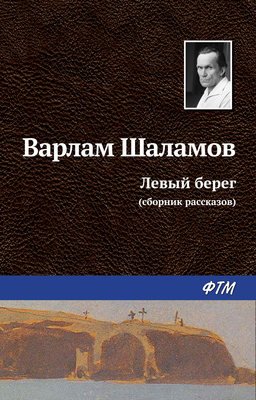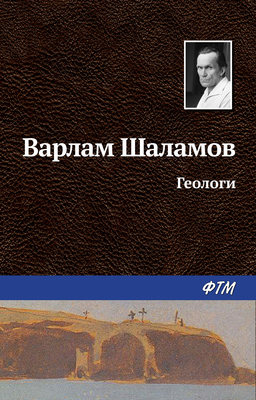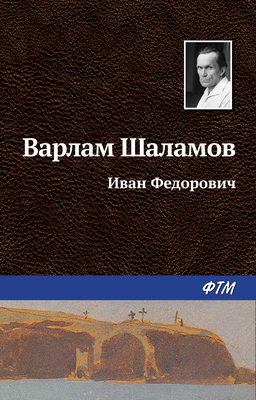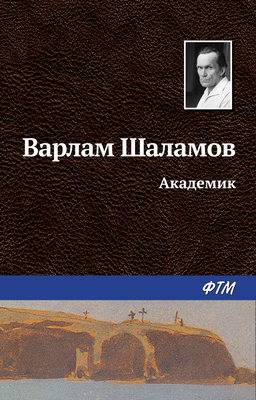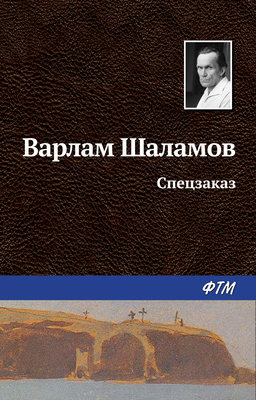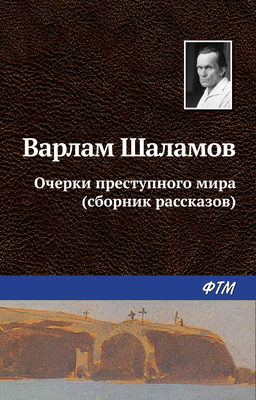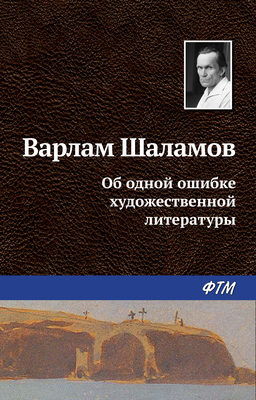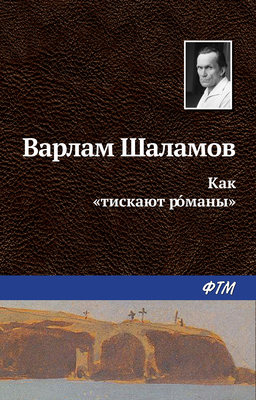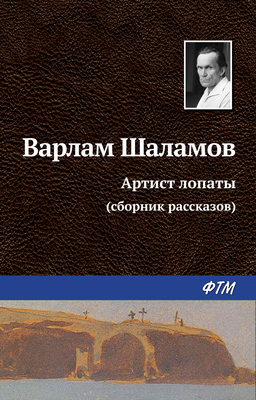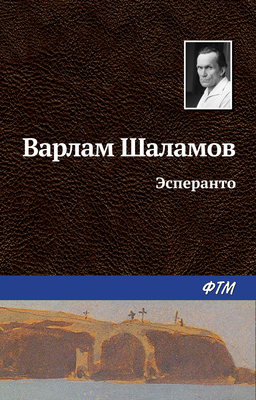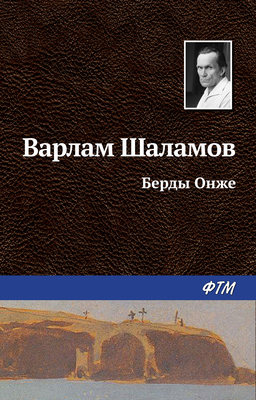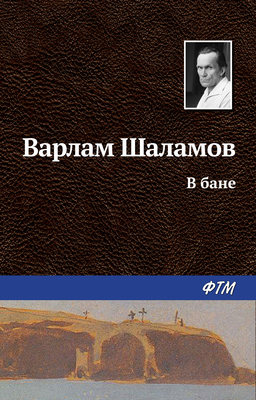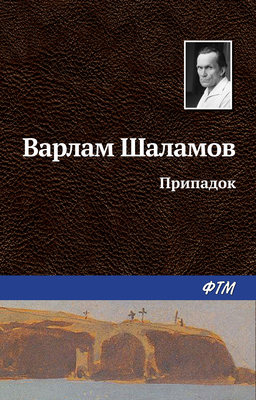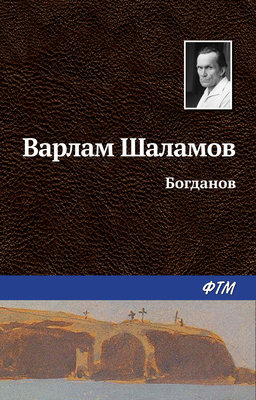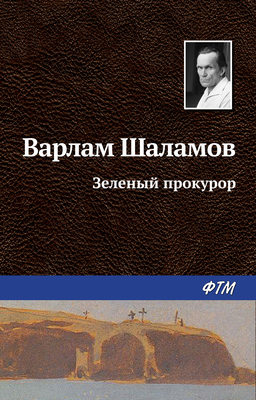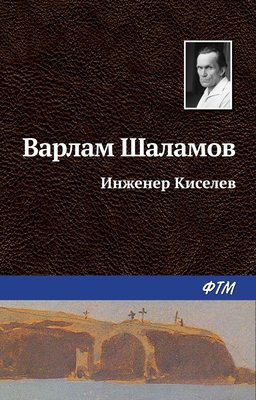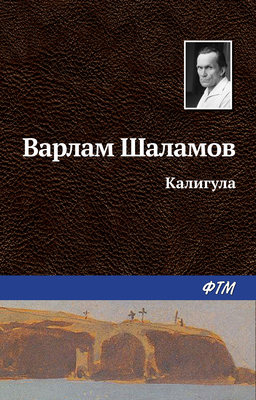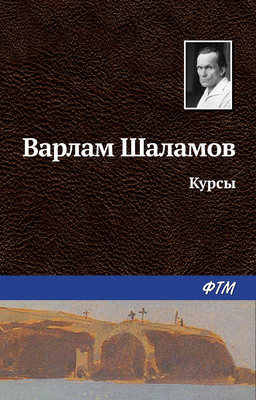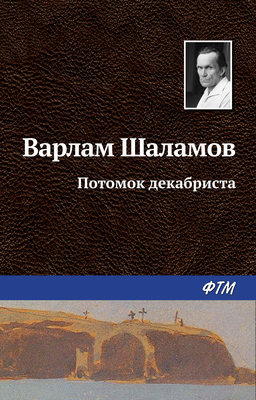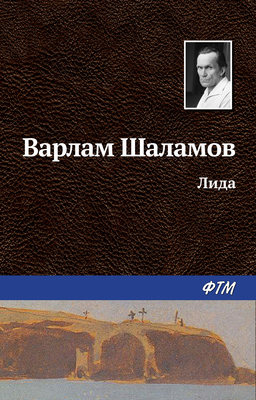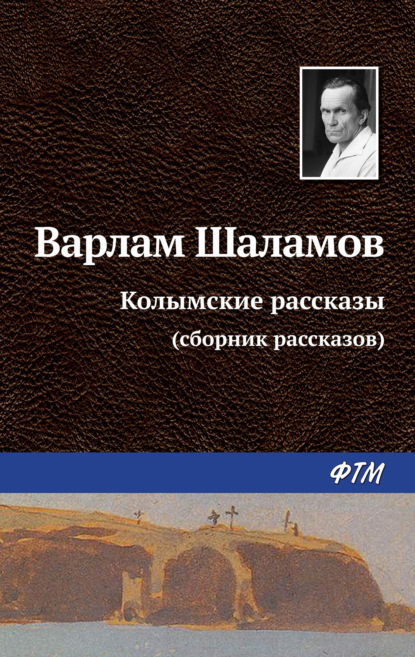Варлам Шаламов
 2Кta obunachi
2Кta obunachiMashhur audiokitoblar
Muallifning barcha kitoblari
Sitatalar
Колымские рассказы
Градусника рабочим не показывали, да это было и не нужно – выходить на работу приходилось в любые градусы. К тому же старожилы почти точно определяли мороз без градусника: если стоит морозный туман, значит, на улице сорок градусов ниже нуля; если воздух при дыхании выходит с шумом, но дышать еще не трудно – значит, сорок пять градусов; если дыхание шумно и заметна одышка – пятьдесят градусов. Свыше пятидесяти пяти градусов – плевок замерзает на лету. Плевки замерзали на лету уже две недели
Избранное в двух томах. Том I
Левый берег (сборник)
Любовь не вернулась ко мне. Ах, как далека любовь от зависти, от страха, от злости. Как мало нужна людям любовь. Любовь приходит тогда, когда все человеческие чувства уже вернулись. Любовь приходит последней, возвращается последней, да и возвращается ли она? Но не только равнодушие, зависть и страх были свидетелями моего возвращения к жизни. Жалость к животным вернулась раньше, чем жалость к людям.
Очерки преступного мира (сборник)
Артист лопаты (сборник)
Ужасно видеть лагерь, и ни одному человеку в мире не надо знать лагерей. Лагерный опыт – целиком отрицательный, до единой минуты. Человек становится только хуже. И не может быть иначе. В лагере есть много такого, чего не должен видеть человек. Но видеть дно жизни – еще не самое страшное. Самое страшное – это когда это самое дно человек начинает – навсегда чувствовать в своей собственной жизни, когда его моральные мерки заимствуются из лагерного опыта, когда мораль блатарей применяется в вольной жизни. Когда ум человека не только служит для оправдания этих лагерных чувств, но служит самим этим чувствам. Я знаю много интеллигентов – да и не только интеллигентов, – которые именно блатные границы сделали тайными границами своего поведения на воле. В сражении этих людей с лагерем одержал победу лагерь. Это и усвоение морали «лучше украсть, чем попросить», это фальшивое блатное различение пайки личной и государственной. Это слишком свободное отношение ко всему казенному. Примеров растления много. Моральная граница, рубеж очень важны для заключенного. Это – главный вопрос его жизни. Остался он человеком или нет.
Различие очень тонкое, и стыдиться нужно не воспоминаний о том, как был «доходягой», «фитилем», бегал как «курва с котелком» и рылся на помойных ямах, а стыдиться усвоенной блатной морали – хотя бы это давало возможность выжить как блатные, притвориться «бытовичком» и вести себя так, чтобы ради Бога не узнали ни начальник, ни товарищи, пятьдесят восьмая ли у тебя статья, или сто шестьдесят вторая, или какая-нибудь служебная – растраты, халатность. Словом, интеллигент хочет быть лагерной Зоей Космодемьянской, быть с блатарями – блатарем, с уголовниками – уголовником. Ворует и пьет и даже радуется, когда получает срок по «бытовой» – проклятое клеймо «политического» снято с него наконец. А политического-то в нем не было никогда. В лагере не было политических. Это были воображаемые, выдуманные враги, с которыми государство рассчитывалось, как с врагами подлинными, – расстреливало, убивало, морило голодом. Сталинская коса смерти косила всех без различия, равняясь на разверстку, на списки, на выполнение плана. Среди погибших в лагере был такой же процент негодяев и трусов, сколько и на воле. Все были люди случайные, случайно превратившиеся в жертву из равнодушных, из трусов, из обывателей, даже из палачей.
Лагерь был великой пробой нравственных сил человека, обыкновенной человеческой морали, и девяносто девять процентов людей этой пробы не выдержали. Те, кто выдерживал, – умирали вместе с теми, кто не выдерживал, стараясь быть лучше всех, тверже всех – только для самих себя…
(Варлам Шаламов. "Инженер Киселев", 1965)
Четвертая Вологда
Вишера