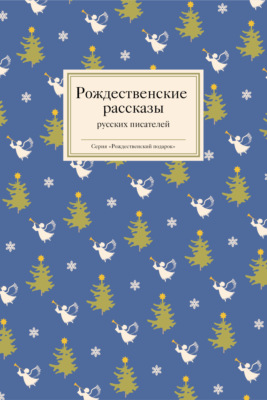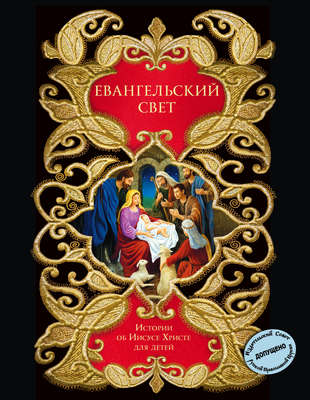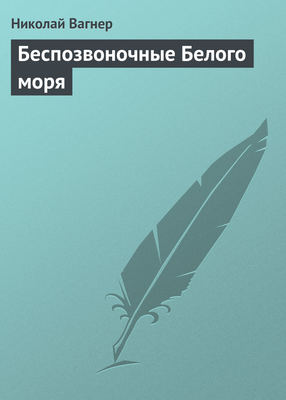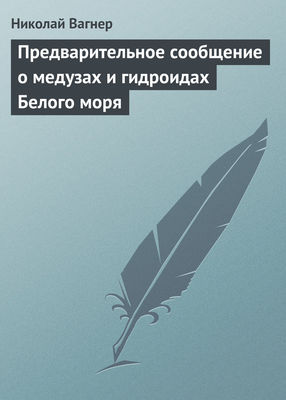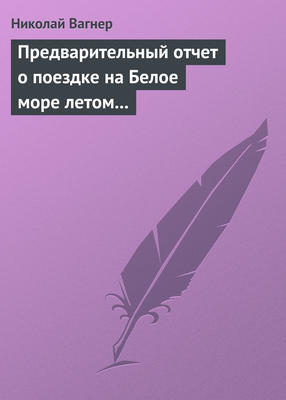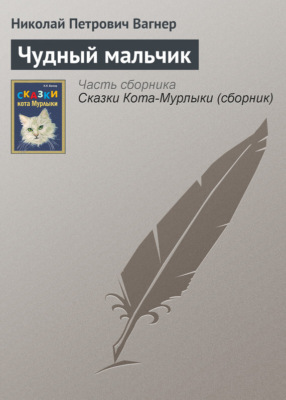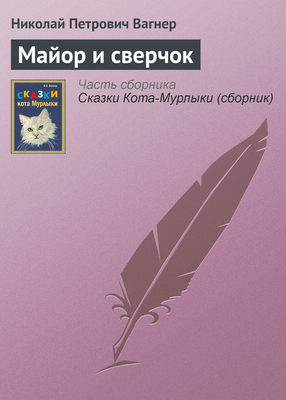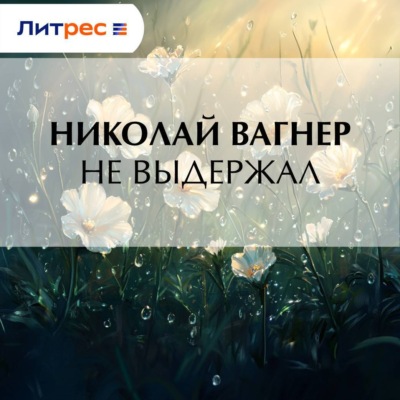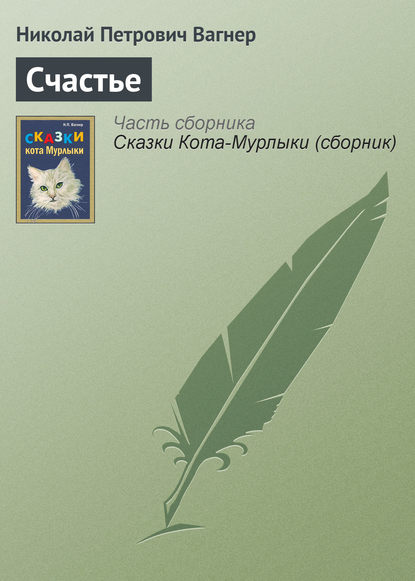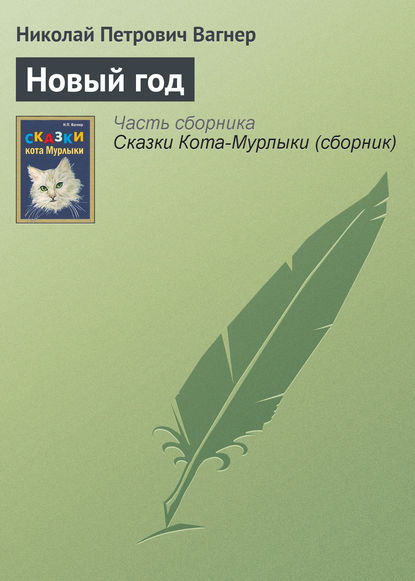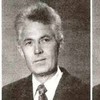Николай Вагнер
 243 ta obunachi
243 ta obunachiMuallifning barcha kitoblari
Sitatalar
Темное дело. Т. 1
Чухлашка
— Извольте радоваться, какое благородство — поднять на улице девчонку, из грязи, и, не боясь холерной заразы, привести ее в свою семью! Какой великодушный поступок!
— Она для них игрушка прежде всего… — сказал Созонт.
— Какая игрушка?
— Такая. Они просто благодаря ей любуются своим благородным поступком…
Чудный мальчик
* * * Говорят, что люди прежде не смеялись оттого, что на земле тогда ничего смешного не было. Другие говорят, что сами люди были прежде умнее и понимали, что ни над чем не надо смеяться, потому что сама природа никогда ни над чем не смеется и все в ней, точно так же, как и в человеке, который не больше, как только частица природы, полно глубокого и великого смысла. А кто смеется над чем бы то ни было, тот, значит, не понимает этого смысла и видит только то, что лежит сверху у него перед глазами.
Фанни
Счастье
Новый год
С Новым годом! С Новым годом! И все веселы и рады его рождению. Он родился ровно в полночь! Когда старый год – седой, дряхлый старикашка – укладывается спать в темный архив истории, тогда Новый год только, только что открывает свои младенческие глаза и на весь мир смотрит с улыбкой. И все ему рады, веселы, счастливы и довольны. Все поздравляют друг друга, все говорят: «С Новым годом! С Новым годом!» Он родится при громе музыки, при ярком свете ламп и канделябр. Пробки хлопают! Вино льется в бокалы, и всем весело, все чокаются бокалами и говорят: – С Новым годом! С Новым годом! А утром, когда румяное, морозное солнце Нового года заблестит миллионами бриллиантовых искорок на тротуарах, домах, лошадях, вывесках, деревьях; когда розовый нарядный дым полетит из всех труб, а розовый пар из всех морд и ртов, – тогда весь город засуетится, забегает. Заскрипят, покатятся кареты во все стороны, полетят санки, завизжат полозья на лощеном снегу. Все поедут, побегут друг к другу поздравлять с рождением Нового года. Вот большая широкая улица! По тротуарам взад и вперед снует народ. Медленно, важно проходят теплые шубы с бобровыми воротниками. Бегут шинелишки и заплатанные пальтишки. Мерной, скорой поступью – в ногу: раз, два, раз, два – бегут, маршируют бравые солдатики. Вот между народа бежит и старушоночка, а с ней трое деток. Старший сынок в маленьком обдерганном тулупчике без воротника и в протертых валенках бежит впереди, подпрыгивает, подплясывает и то и дело хватает за уши – бегут, бегут, скрип, скрип, скрип. – Мороз лютой, погоняй не стой!.. Бежим, матка, бежим! – Бежим, касатик, бежим, родной. Мороз лютой, погоняй не стой!.. Господи Иисусе! – Бежим, Гришутка, бежим, лапушка!.. И Гришутка торопится, пыхтит, семенит ножонками. Скрип, скрип, скрип… От земли чуть видно. Шубка длинная, не по нем, но его поддерживает сестренка Груша. Поддерживает, а сама все жмется, ёжится. – Похлопает, похлопает ручками в варежках и опять схватит Гришутку за ручку и – побежит, побежит!.. – Мороз лютой, погоняй не стой!.. Но Гришутка не чувствует мороза. Ему тепло, ему жарко. Пар легким облачком вьется около его личика. И весь он там, еще там, где они были назад тому с полчаса. В больших палатах, где большая, большая лестница уставлена вся статуями и цветами. Там швейцар с большими черными баками, весь в золотых галунах, в треугольной шляпе и с большою палкой. Там живет сам «его превосходительство», и они ходили поздравлять его с Новым годом. Каждый Новый год приходит Петровна с детками поздравлять его превосходительство, и каждый раз его превосходительство высылает ей три рубля за верную и усердную службу ее покойного мужа Михеича. И на этот раз швейцар доложил – и через час выслали с лакеем новенькую, не согнутую трехрублевую бумажку. Петровна поклонилась, поблагодарила, перекрестилась, дала швейцару двугривенный, на который он посмотрел искоса, подбросил на руке и затем с важностью опустил в жилетный карман. Все время, пока они стояли в сенях у его превосходительства, Гришутка на все дивовался, все осматривал своими большими черными глазами и поминутно теребил мать за рукав. – А это, мама, лестница? – лепечет он чуть слышно. – Лестница, касатик, – шепчет мама. – А куда она идет? – Наверх, в комнаты. – Они тоже большущие? – Большущие, касатик, большущие. – А на лестнице это сады рассажены? – Сады, родименький, сады. – А между ними, что за куклы большущие, белые, стоят? – Это для красы, лапушка, для красы. – А это что, вон там, светлое такое – большущее? – Это зеркило, касатик, зеркило. – А это, посреди, из чашки вверх бежит, это что такое, мамонька? – Это фантал, касатик, фантал… А ты нишкни, лапушка, сейчас прийдут… не хорошо болтатьто… И Гришутка замолк, но не успокоился. Его черные глаза словно хотели проникнуть насквозь и ковер на лестнице, и медные прутья,
Мила и Нолли