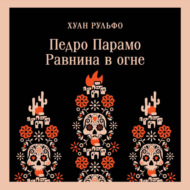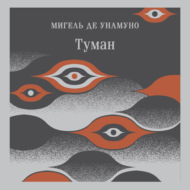«Берлинское детство на рубеже веков» audiokitobidan iqtiboslar, sahifa 3

И, лежа в кровати, почти заснув, я, сам того не зная, чувствовал истинность коротенькой загадки: "Чем позднее вечер, тем чудесней гости".

Немногие, пользующиеся телефонным аппаратом, знают, какие разрушения производил он в семейном быту, когда только-только появился на свет. Звон, которым он нарушал тишину между двумя и четырьмя часами дня, если школьному товарищу хотелось со мной поговорить, раздавался словно сигнал тревоги, он возвещал об опасности, нависшей не только над послеобеденным отдыхом моих родителей, но и над всей эпохой, лелеявшей их сон. Регулярно происходили препирательства с чиновными ведомствами, не говоря уже об угрозах и громовых проклятиях, которые мой отец обрушивал на какую-нибудь инстанцию, куда звонил с жалобой. Однако в подлинный экстаз отца приводила ручка телефона, которую надо было крутить, – этим оргиям он предавался самозабвенно и подолгу. Сжатый кулак отца был словно вертящийся до умопомрачения дервиш. А у меня при виде этого сильно билось сердце, так как я не сомневался, что телефонной барышне не избежать оплеухи в наказание за нерадивость.

Фея, согласная исполнить желание, есть у каждого ребёнка. Но лишь немногие, став взрослыми, помнят, о чём они просили фею; поэтому лишь немногие в своей взрослой жизни видят исполнение этого желания. Я знаю, какое желание исполнилось в моей жизни; не сказал бы, что оно было более разумным, чем те, какие загадывают дети в сказках.
...в школе, только стоило сесть за парту, как сонливость, уж вроде бы улетучившаяся, одолевала меня с удесятеренной силой. С ней возвращалось и моё желание - вволю поспать. Должно быть, я загадывал его тысячи и тысячи раз, ибо со временем оно таки исполнилось. Но немало воды утекло, прежде чем я понял: оно исполнилось потому, что мои надежды найти постоянную работу и верный кусок хлеба всегда оказывались тщетными.

Долгий сладостный день никогда не бывал для меня более долгим и сладостным, чем тогда, когда дождь своим частым -- или редким -- гребешком медленно разбирал его на пряди часов и минут. Послушно, как девочка, день подставлял голову под серую расческу дождя.

Со времени моего детства лоджии изменились меньше, чем все прочие помещения дома. Но не только этим они мне так дороги. А скорее другим: тем, что они, не приспособленные для жилья, служат утешением человеку, который сам лишен крова над головой. Лоджия для берлинца – граница его дома. На лоджии живет Берлин – сам бог этого города. И здесь он чувствует себя столь полновластным хозяином, что рядом с ним не может очутиться что-либо мимолетное. Под защитой этого божества место и время обретают самих себя и примиряются друг с другом. Они покоятся здесь подле ног берлинского бога. А ребенок, который когда-то входил в их союз, чувствует себя на своей лоджии, окруженный этой троицей, словно в заранее сооруженном для него мавзолее.

Способность подмечать сходство между совершенно разными предметами и явлениями есть не что иное, как слабый отзвук нашей древней тяги к подражанию – во внешнем облике или в поведении.

Правда, в школе, стоило только сесть за парту, как сонливость, уж вроде бы улетучившаяся, одолевала меня с удесятеренной силой. С ней возвращалось и мое желание — вволю поспать. Должно быть, я загадывал его тысячи и тысячи раз, ибо со временем оно таки исполнилось. Но немало воды утекло, прежде чем я понял: оно исполнилось потому, что мои надежды найти постоянную работу и верный кусок хлеба всегда оказывались тщетными.

Болезнь уходила так же неприметно, как вначале привязывалась. Но когда я почти уже забывал о ней, она посылала свой последний привет из моего школьного табеля. Там на нижней строке указывалось общее число пропущенных уроков. Эти, пропущенные, не казались мне серыми, однотонными, как те, которые я посетил, напротив, они были словно разноцветные нашивки на груди солдата-инвалида. И самая запись: "Отсутствовал на ста семидесяти трех уроках" -- в моих глазах была тем же, что длинная планка с почетными наградами.

В эти минуты город был притихший и неподвижный – неповоротливый, тяжеленный куль, ведь в нем помещались и я сам, и мое счастье.