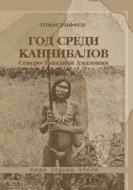Kitobni o'qish: «Воспоминания и мысли»
© Издательство «Директмедиа Паблишинг», оформление, 2021
* * *
Выпуская в свет настоящую книгу, мы сочли уместным предварительно поместить нижеследующее письмо профессора Джемса Стюарта, члена английского парламента, президента аболиционистской Федерации, который так прекрасно характеризует светлую личность Жозефины Батлер, еще мало известной в России и высокочтимой в Западной Европе.
Письмо это профессор прислал на конгресс, который состоялся в Женеве 20 января 1907 г. в память Жозефины Батлер.
«В продолжение полувека я имел счастье быть ближайшим помощником Жозефины Батлер в ее многочисленных и разнообразных предприятиях. Я оплакиваю ее, как, вероятно, никто из ее друзей и сотрудников. Здоровье не позволяет мне быть между вами сегодня, о чем я очень сожалею. Меня охватывает волнение и сердце мое переполняется глубоким горем при мысли о той, в память которой вы сегодня собрались.
Жозефина Батлер была одной из сильнейших индивидуальностей нашего времени. Своим характером, своим влиянием, делом, которое она совершила, она стала в числе тех редких личностей, которые меняют ход событий. Ее существование изменило что-то в жизни мира.
Как большинство избранных умов, она была в полном смысле слова космополитка. Она принадлежала всем нациям и всем временам, статья ее “Голос в пустыне”, переведенная на большинство европейских языков, говорит сердцу каждого народа, как родной голос одного из его сынов.
Жозефина Батлер была руководителем многих мужчин и женщин, искусным и неустрашимым полководцем в сражениях. Словами своими она трогала больше, чем лучшие ораторы, которых мне пришлось слышать. Речь ее отличалась ясностью и определенностью; вокруг предмета, о котором она говорила, группировались всегда другие, причем все вели к одному конечному выводу.
Вслед за Жозефиной Батлер возникали всегда новые мысли, новые цели, новые идеалы. Таким образом возникло в разных странах множество учреждений и движений, которые служат живыми свидетелями ее влияния. Она не только стояла во главе великого крестового похода, но еще подняла на значительную духовную высоту тех, которые последовали за ней.
Говорить об общественной деятельности Жозефины Батлер, не сказав ни слова о ней самой, невозможно, так как это было бы неполное знакомство с этой замечательной личностью.
Жозефина Батлер чувствовала себя совершенно свободно во всех слоях общества. У нее была привлекательная наружность; я думаю, что никто из тех, кто хоть раз видел и слышал ее, не забудет впечатления, которое она производила своим голосом и манерами. Артистка по природе, она хорошо рисовала и прекрасно играла. Несмотря на слабое здоровье, она любила верховую езду и вообще подвижную, деятельную жизнь. Ее трудоспособность не имела пределов. Она была одарена большим умом с некоторой примесью юмора, благодаря чему порой она была очень весела. Одевалась она изящно и чрезвычайно просто.
Ее семейный очаг был ей очень дорог. Мужа своего она любила нежно и глубоко. Он платил ей тем же в полной мере.
Я сказал, что она была крайняя космополитка, и все знавшие ее могут подтвердить, насколько это действительно верно.
Несмотря на это, она была сильно привязана к своей родной стране, особенно к тому клочку земли на границе Англии и Шотландии, где она родилась. Там покоится она теперь на Киркньютонском кладбище, рядом со своими предками.
Жозефина Батлер происходит из старинной фамилии этой местности. Быть может, этому она обязана своей отвагой и боевым пылом, своим возмущением против зла и способностью жертвовать собой.
Она постоянно с большой тщательностью изучала Св. Писание и с великим смирением приближалась к Престолу Господа. Но, несмотря на глубокую веру, в ней не было никакой узости. Имена ее ближайших сотрудников и помощников показывают, насколько широки были ее взгляды. Она близко сходилась с людьми, у которых были с ней совершенно различные убеждения, как религиозные, так и политические.
Ей много пришлось страдать, особенно в начале ее крестового похода, вследствие холодности и равнодушия прежних друзей, а также вследствие грубых нападок невежественных противников. Но в своей высокой цели, в своих обширных планах черпала она духовные силы, которые помогали ей стать выше всех невзгод и сохранить ясность ума и неослабную деятельность.
Теперь все воспоминания о ней сливаются в одну мысль, а именно, что жизнь Жозефины Батлер была большим благодеянием. Каждый из нас, знавших ее, стал лучше, да и мир стал лучше, потому что она жила в нем.
Семя, посеянное ею, нетленно».
Предисловие
Когда Жозефина Батлер узнала о нашем желании написать историю ее жизни, она просила нас отказаться от этого намерения. Заботясь единственно о распространении идей добра и справедливости – чему вся жизнь ее была посвящена – она не хотела, чтобы внимание было обращено на ее собственную личность.
«История нашего крестового похода, – сказала она, – принадлежит обществу; участие, которое я принимала в нем, очерчено в моей книге “Личные Воспоминания”. Что же касается более интимных сторон моей семейной жизни, то разве это не находится в книге, написанной мной в память моего мужа? Я бы желала, чтобы к этому ничего не прибавляли».
Мы преклонились перед желанием Жозефины Батлер, поэтому то, что мы даем теперь публике, не есть ее биография.
Так как не существует более в продаже книги «Воспоминания о Джордже Батлере», то мы поместили несколько отрывков, о которых говорила Жозефина Батлер; в них описана жизнь Джорджа Батлера, а вместе с тем и ее жизнь. Мы считаем себя вправе привести несколько очерков из детства и юности Жозефины Батлер, почерпнутых из ее воспоминаний об отце и сестре. Нами не руководят красота и изящество. Все собранные воспоминания расположены просто в хронологическом порядке. Связи между отдельными очерками нет, комментариями же мы не желали снабжать их. Нравственный облик той, которую мы так глубоко уважаем, просвечивает только сквозь образы дорогих ее сердцу лиц; таково ее желание.
Не имея источников, из которых можно было бы почерпнуть данные относительно последних лет жизни Жозефины Батлер, мы принуждены были бы пройти молчанием этот период ее жизни, если бы не существовало нескольких номеров журнала «The Storm Bell», который в продолжение двух лет ежемесячно помещал ее статьи; в них она обращалась к далеким друзьям, вдохновительницей и советницей которых она оставалась в тиши своего уединения. Издание это стало очень редким. Мы взяли оттуда ряд статей, обрисовывающих еще яснее, чем «Личные Воспоминания», духовный образ той, которую мы хотим представить нашим читателям.
Горячие последователи идей Жозефины Батлер, мы заботимся о возможно более широком распространении их; мы не руководствуемся желанием воздвигнуть ей памятник, а хотим только послужить делу, составлявшему сущность ее жизни, и, распространяя ее идеи, продолжить, так сказать, влияние этой дивной личности, избранной Богом.
Юность
Мне представляется невозможным написать историю жизни моего отца без некоторого беглого очерка страны, где он родился, жил и умер.
Глендейл, прелестное место, где родился мой отец, всю жизнь был ему дорог. Сильна была его привязанность к этому уголку и не только к людям, населявшим Глендейл, но и к самой местности, с ее холмами, долинами и быстрыми речками, всегда и всюду проявлялась эта нежная привязанность. Чувство отца разделяли и мы, дети, нам казалось, что ни одно место на земном шаре не может сравниться с Глендейлом.
Культ родного края более был развит у нас, чем у других, вследствие того, быть может, что семья наша давно уж пустила корни в этой местности; чувство это переходило от поколения к поколению, росло и крепло. С давних пор было много представителей фамилии Грей на окраине Нортумберленда. Им приходилось защищать свои крепости и сторожевые башни от соседей, шотландцев, что делало их жизнь чрезвычайно тягостной и беспокойной.
Глендейл богат историческими воспоминаниями. Нет в окрестностях ни одного места, которое не было бы связано с воспоминаниями о каком-нибудь эпизоде одной из многочисленных войн, о каком-нибудь романтическом приключении или о героическом подвиге, прославляемом в английских балладах и шотландских песнях; о некоторых эпизодах говорит нам сэр Вальтер Скотт в своих поэмах. Друидические памятники и римские развалины также не редкость в наших местах.
Красивая речка Глен, текущая с гор, дала название Глендейлу и носит несколько священный характер благодаря воспоминаниям о святом Паулинии, который, по словам Досточтимого Беды, окрестил в этой речке несколько тысяч бедных британцев. «Паулиний, – говорит Беда, – прибыв в Ад-Гэбрин (теперь Ирвинг), оставался там тридцать шесть дней, в продолжение которых он с утра до вечера безустанно возвещал толпам, приходившим к нему, спасение через Христа. После проповеди Евангелия он крестил их в протекавшей недалеко речке Глен в знак отпущения грехов».
Холмы, окаймляющие Глендейл с востока, очень красивы. Даже самые названия их – Ивринг-Бель, Гертпуль-Бель, Ньютон-Тор, Тета, Геджгоп и Шевиот – казались отцу особенно музыкальными. Против Мильфильд-Гилля, нашего старого жилища, расстилается Мильфильд-Плэн, равнина, бывшая театром бесчисленных сражений между англичанами и шотландцами. Из наших окон можно было бы быть свидетелем знаменитой битвы на Гомбледан-Гилле.
Флудден-Гилль, находящийся на расстоянии одной мили к северу от Мильфильд-Гилля, хранит в недрах своих остатки от великой битвы 1513 года. Взрывая землю плугом или лопатой, не раз находили части доспехов людей и лошадей. Все эти находки сохраняли, как святыню. Отец мой любил вспоминать о знаменитой битве; он рассказывал все перипетии ее нам, детям, во время прогулок с нами пешком или верхом по склонам Флудден-Гилля или во время остановок у Кинг-Иэра и Сибильс-Вэля. Память у него была замечательная; он знал наизусть почти всю поэму Вальтер Скотта «Мармион», а также другие произведения, в которых описаны события этого ужасного дня.
Отец мой ненавидел Стюартов, но с симпатией относился к шотландской молодежи и с большим чувством рассказывал, как погибла эта благородная молодежь.
После Флудденской битвы враждебные отношения на границе обратились в систематические набеги и разбои, что продолжалось еще долгое время. Не так давно еще нортумберлендцы наших мест сторожили со своими собаками места, где можно было переходить реки вброд, чтобы воспрепятствовать шотландцам красть скот. На одном из первых заседаний «Highland Society» отец мой сказал: «Было время, когда нельзя было бы доставить на выставку скот иначе, как под охраной конной стражи, и без этой защиты он мог бы быть изжаренным нортумберлендцами или сваренным шотландцами».
Но вот настал час пробуждения для этой прекрасной страны. Быть может, ни одна местность Англии не изменилась так быстро за эти 80–90 лет, как Нортумберленд. Население продолжало быть в полуварварском состоянии еще долго после того, как в другие места уже проникла цивилизация.
Почва и климат служили большим препятствием развитию возникающей культуры, но суровые жители отличались энергией, благодаря чему Нортумберленд вскоре стал во главе земледельческого прогресса.
Отец мой принимал большое участие в развитии этой страны и в развитии земледелия вообще. Те из нас, которые видели обильные урожаи за последние двадцать лет на берегах Твида и Тилля, могут составить себе понятие о том, как быстро изменилась эта страна и как велика, как значительна перемена. То же самое произошло несколько позже на берегах Тайна. Когда в 1833 году отец поселился там, берега Тайна, поражающие теперь своим плодородием, были покрыты на протяжении нескольких тысяч миль диким кустарником и низкорослой сосной да березой.
Джон Грей родился в 1785 г. Он был сын Джорджа Грэя из Ухт-Орда на берегах Твида и жены его Марии Бёрн. Вот что пишет он сам о своих предках одному из друзей:
– В одной из летописей нашей семьи говорится, что Грэи происходят от Ромгона, дочь которого, Гариетта, была матерью Вильгельма Завоевателя. Я же думаю, что их нормандское происхождение сомнительно. Во всяком случае, верно то, что они потомки многих поколений воинов, из которых одни охраняли Ист-Марчес, другие же были комендантами замков Норгам, Марпет, Ворк и Бервик в те времена, когда на границе происходили постоянные стычки.
Некоторые из наших предков выдвинулись также в войнах на континенте. Сэр Джон Грей из Гитона, родившийся в 1356 г., отличился на службе в армии Генриха V; он захватил несколько замков в Нормандии, за что получил титул Танкервиля, который носят теперь представители одной из ветвей нашего рода. Нам представляют его достойным рыцарем, пользовавшимся большой славой; он отличался широким лбом, что составляло характерную родовую черту. Один из сыновей сэра Джона Грэя, комендант замка Морпет, обесславил себя, женившись на хорошенькой дочери фермера из Анжертона. К этой-то ветви и принадлежит наша выродившаяся фамилия…
Родители моей матери были хорошие, честные люди. Оба они происходили из семей бедных ткачей, изгнанных из Англии в силу Нантского эдикта. Двери их дома были всегда гостеприимно открыты для протестантов, к какой бы секте они ни принадлежали. Одно из самых отдаленных воспоминаний моей матери относится к посещению Джона Веслея. Старик с добрым приветливым лицом и длинными серебристыми волосами посадил ее к себе на колени, положил руки на белокурую детскую головку и произнес торжественное благословение.
Местоположение нашего дома в Диньстоне было дивное. Простая, дикая прелесть местности, исторические и романические воспоминания, связанные с ней, веселый семейный круг, радушное гостеприимство хозяев – всё это привлекало друзей и знакомых. В числе наших самых приятных гостей были шведы, русские и французы, присланные в Англию для изучения земледелия или чего-либо другого. Они проводили у нас иногда по несколько недель. Двери нашего дома были широко открыты для всех этих иностранцев. Бросая взгляд на далекое прошлое, мне кажется, что тогда было вечное лето…
Через низкое окно легко было выскользнуть, в один миг очутиться на дикой лесной тропинке среди папоротников и скрыться в густой тени берез или же спуститься в высохшее ложе горного источника…
Днем и ночью слышен был отдаленный шум водопадов и веселое журчанье прозрачных ручьев; это была дивная музыка, которая во время проливных дождей обращалась в дикий рев…
Семья наша состояла из шести дочерей и трех сыновей. Моя сестра Гарриет и я были связаны неразрывной дружбой. До ее замужества и отъезда в Неаполь мы никогда с ней не расставались, разве изредка на несколько дней. Мы были привязаны друг к другу более, чем это обыкновенно бывает между сестрами, мы положительно сливались в одну душу и в одно сердце. Занятия, прогулки, игры, катанье верхом – все у нас было общее. Если бранили одну, то плакали обе. Когда хвалили которую-нибудь из нас, то обе радовались.
Вспоминая это далекое время, мне кажется, что наиболее характерными чертами моей сестры были ее страсть к жизни на воздухе и ее любовь к природе и к животным. Скажут, что это присуще большей части детей, воспитывающихся в деревне. Но в ней эти чувства были особенно сильно выражены.
У нас было много собак. Одну из них Гарриет особенно нежно любила. Если ее не было в час урока, то можно было с уверенностью сказать, что она сидит у будки Пинчера и дружески разговаривает со своим любимцем. Но вот случилось нечто действительно трагическое. Однажды утром в поле нашли несколько овец из нашего стада, сильно искусанных. Подозрение пало на Пинчера, несмотря на то что в окрестности было много собак, принадлежавших сторожам и фермерам; без сомнения, одна из них и была виновницей преступления. Но хозяева их предпочли свалить вину на нашу собаку. Пинчера судили, приговорили к смерти и казнили. Бедная собака, она до последней минуты ласкалась и протягивала лапу, чтобы показать, как говорила со слезами моя сестра, что прощает своим палачам.
Этот трагический случай сильно подействовал на Гарриет, и она еще долгое время после того плакала по ночам. Уверенность в том, что осуждение было несправедливо, еще более усиливало ее горе.
Часто незначительные случаи остаются у нас в памяти, между тем как что-нибудь более важное забывается. Помню одну сценку, которая произошла вскоре после вышеописанного случая. Мы были в классной и занимались под строгим надзором нашей учительницы. Вдруг среди царившей тишины раздается голос моей сестры: «Мадемуазель, была ли у Пинчера душа?» – спросила сестра, и в голосе ее ясно звучала трагическая нотка. – «Молчите и не задавайте глупых вопросов, лучше работайте!» – вот ответ учительницы. Не раз уже задавали мы себе этот вопрос, присутствуя при смерти наших друзей из мира животных и читая их немой, жалобный призыв, обращенный к тем, которые их любили любовью, казавшейся, быть может, несообразной с их ограниченным мышлением. Решение вопроса – была ли у Пинчера душа – имело большое значение в глазах девочки, но, как очень часто бывает, то, что тревожило ее, волновало и настоятельно требовало ответа, осталось непонятным.
Интерес сестры к животным не ограничивался только благородными представителями животного царства, у нее были также экземпляры самых низших видов нашей фауны, например, саламандры, лягушки и другие. Сестра говорила, что все они достойны любви.
Наши кроватки стояли рядом, а над ними находилась этажерка, на которой были расставлены банки с этими живыми сокровищами. Как-то ночью этажерка сорвалась, и банки со всем, что было в них, попадали на наши кровати. Произошедший случай несколько охладил мой пыл к изучению этой отрасли естественных наук. На мою же сестру это ничуть не повлияло. Еще теперь вижу, как она с нежностью стала собирать своих лягушек и саламандр; она наполнила банки свежей водой и положила туда своих любимцев, говоря: «Надеюсь, что падение не повредило им». У нас были друзья также между дикими кошками и совами; в числе сов были великолепные экземпляры: серьезные, молчаливые, с большими круглыми глазами и выражением глубокой мудрости, птицы эти совершенно походили на классического товарища Минервы. У нас были пони. На одном из них, прелестном, белом, как снег, называвшемся Апль-Грей, все мы учились верховой езде. Было время, когда идеалом моей сестры была карьера наездницы цирка. Чтобы подготовиться к этой благородной, по ее мнению, деятельности, она проделывала множество упражнений. Сняв, бывало, башмаки, стоя на спине Апль-Грэя, она пускала его в галоп по полям и лугам, управляя только уздечкой. Благодаря настойчивости, после многих падений сестра моя достигла большого искусства в этих упражнениях. Но вот мысли ее приняли вдруг сразу другое направление, и призвание наездницы было забыто.
Несколько лет спустя она писала по поводу смерти нашего дорогого пони следующее: «Наш старый Апль-Грей был убит сегодня возле ямы, вырытой для него. Говорят, что он умер сразу. Отец не решался отдать распоряжение, а потому слуги сделали это сами. Так как бедное животное не могло больше ни есть, ни подниматься без посторонней помощи, то это самое лучшее, что можно было сделать. Помните ли вы наши скачки, наши падения? Помните ли, как умен был Грей, какие милые штуки он проделывал? Эмми и я достали надгробный камень, на котором каменщик Сортес выгравировал слова: “В память Апля”. Я хочу попросить у Боффона иву, чтобы посадить на могиле Апля. Если наш верный товарищ переселился в страну веселой охоты, то тем лучше для него, нашего дорогого старого друга!»
Не обходилось, конечно, без огорчений. Иногда тучи омрачали ясное небо, и мы шепотом говорили об испытаниях, посылавшихся провидением нашей семье, хотя и не понимали всего их значения. Много рассуждали мы о том, что в мире не все происходит так, как бы, по нашему мнению, следовало.
Мы очень любили одного из наших братьев, Джона, и искренно восхищались им. Рассказы его о приключениях морской жизни приводили нас в восторг. Он погиб в море. Сестра и я были положительно подавлены горем наших родителей и вполне разделяли его. Невольно приходили на память слова из поэмы миссис Гиман «Могила одной семьи»: «Он покоится на дне моря, где лежит жемчуг. Все любили его, но никто не может плакать на его могиле».
Несколько времени спустя наша старшая сестра вышла замуж и уехала в Китай. Письма ее с Дальнего Востока читались вслух в кругу семьи. Наше любопытство было крайне возбуждено описаниями страны, ее населения, обычаев и нравов. Нам чрезвычайно понравилось описание визита к великому мандарину. Тогда казалось, что Китай находится как-то необыкновенно далеко, что еще увеличивало интерес и придавало таинственность этой стране.
Живя в деревне, вдали от городской жизни, в эпоху, которую можно было бы назвать еще дообразовательной, по крайней мере относительно женского образования, мы не пользовались ни одним из преимуществ, предоставленных в наши дни молодым девушкам. Благодаря необыкновенной стойкости нашей дорогой матери мы были подчинены такой строгой дисциплине, умственной и нравственной, что это несколько вознаграждало нас за недостаток более обширных знаний. Все, чтобы мы ни делали, должно было быть сделано хорошо. По требованию матери мы доводили изучение всего, за что брались, до конца, причем не пользовались ничьей помощью; мы должны были стремиться во всем к достижению возможного совершенства. Каждый день мать наша читала нам вслух какую-нибудь серьезную книгу, вслед за чтением она спрашивала нас о прочитанном, чтобы убедиться в том, что мы все поняли.
Участие моего отца в больших политических движениях, как то: в билле о реформе, в уничтожении невольничества и торговли черными, в вопросе о свободном обмене и др. – способствовали тому, что мы рано начали интересоваться общественными вопросами нашей страны и ее историей.
Сестра и я провели два года в школе в Ньюкасле. Гарриет не любила учиться и откровенно признавалась в этом, что очень огорчало нашу учительницу, которая была не особенно строга; она предоставляла нам большую свободу, которою мы, конечно, широко пользовались. Она была добрая, сердечная женщина. Ей удалось, по ее мнению, открыть у сестры большой талант, «искру гения». Талант она увидела в сочинениях и интересных рисунках пером. Мы только позже узнали, что учительница наша собирала и прятала исписанные сестрой листки и, при случае, читала их своим друзьям. Это были материалы для сочинения «История Итальянских Республик». Поля тетрадок, в которых Гарриет писала свое сочинение, были испещрены подходящими к тексту иллюстрациями; рисунки были большей частью юмористические и чрезвычайно оригинальные. Я уже говорила, что в жизни нашей бывали заботы и огорчения. Да могло ли быть иначе в такой многочисленной семье? К тому же почти все мы отличались большой чувствительностью и мягким сердцем, что мало способствует душевному миру и спокойствию.
Годы шли. Отец проводил всех своих дочерей к алтарю нашей деревенской церкви в день их брака. Одна за другой покинули они родительский дом. Глубоко запечатлелся этот день в памяти каждой из них. Утром отец входил в комнату невесты, молча он нежно обнимал свою дочь, сильно билось его сердце и выдавало старательно сдерживаемое волнение. – «Отец, у вас остаются другие дети». – «Дитя мое!..» – начинал отец, и, не будучи в силах продолжать, еще сильнее, еще нежнее обнимал свою дочь. Им руководило не эгоистическое чувство, об этом не могло быть и речи. Страх за будущее своего дитяти овладевал им, как и нашей матерью.
Нелегко говорить о его любви и нежности тем, которых он так сильно любил. Вот несколько строк, написанных моей сестрой, госпожой Мейеркоффер, они дают некоторое понятие о характере нашего отца:
«Трудно передать словами то понятие, которое сложилось у меня о жизни и характере моего отца. Никогда не читал он нам морали; но его прямота, благородство и высокие чувства отражались во всех его словах, делах, во всей его жизни. Разговор его казался мне чистым, прозрачным ручьем, не сознающим благодеяний, которые дают его светлые прохладные воды. В объяснениях отца чувствовалось горячее желание поделиться тем, что он знает, что его самого интересует, им не руководило желание учить. Трогательно было видеть, как этот человек, обладавший огромными познаниями, со вниманием слушал своих собеседников, когда те говорили о чём-либо, ускользнувшем от его наблюдений».
Как теперь помню наши прогулки с отцом, продолжавшиеся иногда от десяти часов утра до самого вечера. Мы посещали фермы и целыми часами наблюдали, бывало, за дренажными работами на каком-нибудь малоплодородном участке, который через год преображался уже в обработанное засеянное свеклой поле; еще через год там сеяли овес.
Иногда мы смотрели, как снимали кору с только что срубленных деревьев; мне кажется, что я еще чувствую аромат веток дикой сосны, благоухающих на свежем воздухе.
Случалось нам проезжать через дворы, наполненные стогами сена, и мимо загонов, где стоит скот. Животные вытягивали свои шеи, чтобы схватить куски репы, приготовленной для них. У меня сохранилось самое приятное воспоминание о том, как сопровождали нас иногда фермеры во время наших объездов. Чувствовалось, что у них полное доверие к советам отца. Они хорошо знали его честность, справедливость и желание быть полезным. Если они не соглашались с его мнением или же он не одобрял их доводов, они никогда не сердились, они понимали, что он вовсе не стремился настоять на своем, а только хотел работать вместе с ними для достижения наилучших результатов. Было так много внимания и доброжелательности в его манере объяснять им, как нужно поступать, что делать, при этом он всегда считался с их затруднениями – в конце концов они уступали его стойкости и прямоте. Его нравственные достоинства, его полнейшее бескорыстие, отсутствие авторитетности, полнейшее отсутствие угрюмости или дурного расположения духа при исполнении своих обязанностей – всё это должно было действовать благотворно на простых необразованных людей, давая им более высокое понятие о том, что честно, благородно и справедливо. Отец мой был праведник в том смысле, в каком говорит текст Св. Писания, то есть у него было нечто более высокое, чем обыкновенная честность.
Bepul matn qismi tugad.