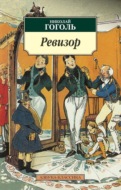Kitobni o'qish: «Женщина в белом»
Первый период
Рассказ начинает Уолтер Хартрайт
(учитель рисования из Клементс-Инна)
I
Это история о том, до чего может простираться терпение женщины, и о том, чего может достигнуть мужчина при твердой решимости.
Если бы при разбирательстве любого подозрительного случая закон подвергался лишь умеренному влиянию всесильного золота, то события, наполняющие эти страницы, привлекли бы внимание широкой публики уже во время судебного разбирательства.
Однако в некоторых, даже самых очевидных, делах правосудие до сих пор еще остается верным слугой туго набитого кошелька; подобный-то случай и будет впервые рассказан на этих страницах. Так же как эту историю мог бы услышать судья, ее сейчас услышит читатель. Все сколько-нибудь важные обстоятельства этой истории, от ее начала до конца, будут переданы со слов очевидцев. Когда пишущему эти вступительные строки (Уолтеру Хартрайту) придется играть в описываемых событиях более важную роль, нежели другим, он расскажет о них сам. Когда же речь пойдет о том, чему он не был свидетелем, он откажется от звания рассказчика и уступит свое место тем, кто был лично знаком с обстоятельствами и кто продолжит его повествование так же ясно и правдиво, с того самого момента, на котором остановится Уолтер Хартрайт.
Таким образом, эту историю будут писать несколько человек, подобно тому как в суде картину преступления воссоздает не один, а несколько свидетелей; в обоих случаях это делается с одной целью, дабы представить истину наиболее точно и обстоятельно и проследить течение событий в целом, предоставляя слово людям, принимавшим в них непосредственное участие, дабы они сами в точности описали то, свидетелями чему они стали.
Первым выслушаем Уолтера Хартрайта, учителя рисования, двадцати восьми лет.
II
Был последний день июля. Продолжительное жаркое лето приближалось к концу, и мы, усталые пилигримы лондонских мостовых, начинали подумывать о спасительных облаках, дарующих тень над деревенскими просторами, и об осенних ветрах на морском берегу.
Что касается моей скромной персоны, то уходящее лето оставляло меня в плохом состоянии здоровья, не слишком хорошем расположении духа и, по правде сказать, почти без денег. В течение года я не так осторожно, как обычно, распоряжался своим заработком; вследствие такой расточительности мне предстояла грустная перспектива проводить осень экономно: то в коттедже моей матери в Хэмпстеде, то в моей собственной комнате в Лондоне.
Помнится, вечер был тихий и облачный; удушливый воздух опускался на улицы; отдаленный шум улиц стихал; все слабеющий в моем теле пульс и биение сердца огромного города, казалось, звучали в унисон, становясь все тише и тише по мере того, как заходило солнце. Я оторвался от книги, над которой больше мечтал, нежели читал ее, и вышел из моей комнаты подышать прохладным ночным воздухом пригородов. Это был один из двух вечеров, которые я обычно каждую неделю проводил с моей матерью и сестрой. Таким образом, я направил свои стопы на север, по направлению к Хэмпстеду.
Происшествия, о которых я буду рассказывать, ставят меня перед необходимостью упомянуть здесь, что отец мой умер за несколько лет до описываемых событий и что из пятерых детей его в живых оставались только я и моя сестра Сара. Отец был учителем рисования. Своими стараниями он достиг большого успеха в профессии. Неусыпно заботясь о том, чтобы обеспечить будущность тех, чье существование зависело от его трудов, он тотчас же после женитьбы застраховал собственную жизнь на весьма значительную сумму, употребив на это гораздо большую часть своего дохода, чем это делают обычно. Благодаря удивительному благоразумию и самоотверженности отца моя мать и сестра остались после его смерти в таком же независимом положении, в каком находились и при его жизни. Я наследовал уроки отца после его смерти и был крайне признателен за открытую им передо мной перспективу в жизни.
Тихий сумрачный свет еще трепетал на живых изгородях, а Лондон потонул в темной бездне хмурой ночи, когда я остановился перед калиткой матушкиного коттеджа. Не успел я позвонить, как дверь распахнулась и передо мной, вместо служанки появился мой достойный друг, итальянец, профессор Песка. Он весело встретил меня, громко выкрикивая нечто, что лишь отчасти походило на английское приветствие.
Собственно, личность профессора сама по себе заслуживает того, чтобы я представил его читателям. К тому же волею случая с него началась та таинственная семейная история, которой будут посвящены следующие страницы.
Я познакомился с моим другом в одном из богатых домов, где он давал уроки своего родного языка, а я – рисования. Из истории его жизни мне было известно только то, что некогда он преподавал в Падуанском университете, потом оставил Италию по политическим причинам (сути которых никому не хотел объяснять) и что вот уже много лет он живет в Лондоне, преподавая иностранные языки.
Не будучи в настоящем смысле слова карликом – поскольку он был прекрасно сложен с головы до ног, – Песка был, по-моему, самым крошечным человеческим существом, какого только мне доводилось видеть в жизни. Однако среди прочих людей в большей степени он выделялся не своей примечательной внешностью, а безвредной эксцентричностью характера. Главная цель его жизни состояла, кажется, в том, чтобы выразить свою признательность стране, которая предоставила ему убежище и средства к существованию, ради чего он прилагал все силы, чтобы стать настоящим англичанином. Он не довольствовался тем, что из уважения к английской нации постоянно носил с собой зонтик и ходил в гамашах и цилиндре. Профессор изо всех сил стремился не только выглядеть англичанином, но и усвоить все исконно английские обычаи и развлечения. Полагая, что мы как нация отличаемся особой любовью к атлетическим упражнениям, маленький человечек, с присущей его сердцу наивностью, страстно увлекался всеми чисто английскими спортивными забавами, твердо убежденный, что он может постичь их одним усилием воли точно так же, как он приспособился к нашим национальным гамашам и цилиндрам.
Мне доводилось видеть, как профессор слепо рисковал своими конечностями на охоте на лисиц и на поле для крикета; а вскоре после этого я стал свидетелем того, как он столь же слепо рисковал своей жизнью на море в Брайтоне.
Мы встретились там случайно и отправились купаться вместе. Если бы мы занялись каким-нибудь чисто английским спортом, я, разумеется, должен был бы присмотреть за Пеской, но так как иностранцы обычно чувствуют себя в воде не хуже нас, англичан, то мне и в голову не пришло, что для Пески искусство плавания служило дополнением к длинному списку упражнений, которым профессор, по его мнению, мог обучиться экспромтом, по наитию. Вскоре после того, как мы оба отплыли от берега, я остановился, заметив, что мой приятель отстал, и обернулся взглянуть на него. К моему ужасу и удивлению, я не увидел между мной и берегом ничего, кроме двух маленьких белых рук, которые с минуту барахтались на поверхности воды, а потом исчезли из виду. Когда я нырнул, чтобы вытащить Песку, бедняжка лежал меж камней на дне, свернувшись в комочек, отчего казался еще более крошечным, чем всегда. Понадобилось несколько минут, чтобы вытащить его; воздух оживил профессора, и с моей помощью он смог взойти на ступени кабинки машины. Вместе с жизнью к нему снова вернулась его бредовая идея относительно плавания. Едва стучащие зубы позволили ему заговорить, он неопределенно улыбнулся и заявил, что, вероятно, у него случились судороги.
Придя в себя совершенно, он присоединился ко мне на берегу, искусственная английская сдержанность в одно мгновение уступила место его страстному южному темпераменту. В самых восторженных выражениях Песка снова и снова благодарил меня за спасение; страстно, в склонной к преувеличениям итальянской манере он восклицал, что отныне отдает в мое распоряжение всю свою жизнь, объявлял, что не будет счастлив до тех пор, пока не найдет случая доказать мне свою признательность услугой, которую я, в свою очередь, запомню до конца моих дней.
Я всеми силами старался остановить поток его слез и уверений, настойчиво представляя это приключение не более чем предметом для шутки; наконец мне, по-видимому, удалось несколько охладить в нем чувство признательности. Не думал я тогда, как не думал и после, когда наши веселые каникулы подходили к концу, что случай оказать мне услугу, случай, которого так страстно жаждал мой признательный товарищ, скоро наступит; что он с жаром ухватится за него и что, поступив таким образом, он повернет весь поток моей жизни в новое русло, а меня самого изменит до неузнаваемости.
Случилось именно так. Если бы я не нырнул, чтобы вытащить профессора Песку, когда он лежал под водой на своем каменном ложе, я, по всей вероятности, никогда не участвовал бы в истории, описываемой на этих страницах, и, может статься, никогда не услышал бы даже имени женщины, которой отныне посвящены все мои помыслы, которая завладела всей моей энергией, сделалась единственным руководящим началом, управляющим всей моей жизнью.
III
По выражению лица и поведению Пески, встретившего меня на пороге матушкиного коттеджа, я сразу понял, что случилось нечто необыкновенное. Однако просить у него немедленного объяснения было совершенно бесполезно. Пока он тащил меня за обе руки в комнату, я мог только предполагать, что, зная мои привычки, он пришел в коттедж, дабы встретиться со мной в этот вечер и сообщить мне какие-то чрезвычайно приятные новости.
Мы вбежали в гостиную самым бесцеремонным, шумным образом. Матушка сидела у открытого окна и смеялась, обмахиваясь веером. Песка был ее любимцем, и она снисходительно смотрела на все его сумасбродства. Дорогая матушка! С первой минуты, когда ей стало известно, как глубоко и признательно Песка привязан к ее сыну, она раскрыла для маленького профессора свое сердце и принимала все его непонятные чужеземные выходки за нечто само собой разумеющееся, не пытаясь постигнуть их смысла.
Сестра моя Сара, несмотря на все преимущества юности, была – и это довольно странно – не так сговорчива. Она отдавала должное превосходным душевным качествам Пески, но не могла принять его целиком, безусловно, как это делала матушка. Чисто английские представления Сары о приличиях пробуждали в ней негодование против врожденного презрения Пески к этим приличиям, она всегда, более или менее явно, выказывала свое удивление матушкиной снисходительностью по отношению к эксцентричному маленькому иностранцу. По моим наблюдениям, впрочем, не только моя сестра, но и другие представители нового поколения совсем не так радушны и доброжелательны, как наши старики. Мне часто доводилось видеть, как старые люди были взволнованы, радостно предвкушая какое-нибудь невинное удовольствие, в то время как оно нисколько не трогало их бесстрастных внуков. Желал бы я знать, такие же ли мы теперь, искренние юноши и девушки, какими были наши отцы и матери в свое время? Не слишком ли больших успехов достигло воспитание? Не слишком ли хорошо мы нынче воспитаны?
Не решаясь ответить на эти вопросы однозначно, я могу, по крайней мере, сказать, что в те минуты, когда я видел мою мать и сестру в обществе Пески, матушка мне казалась гораздо моложе моей сестры. Так и на этот раз: в то время как матушка искренне хохотала над нашим мальчишеским вторжением в гостиную, Сара угрюмо подбирала осколки чашки, опрокинутой профессором со стола, когда он стремглав бросился встречать меня.
– Не знаю, что и случилось бы, Уолтер, если бы ты промедлил долее, – сказала матушка. – Песка чуть с ума не сошел от нетерпения, а я – от любопытства. Профессор принес какие-то удивительные новости, которые касаются тебя, и, вообрази, был так жесток, что не хотел сообщить их нам до тех пор, пока не появится его друг Уолтер.
– Какая досада! Сервиз теперь испорчен! – прошептала про себя Сара, грустно разглядывая осколки разбитой чашки.
В это время Песка, не отдавая себе отчета в совершенном проступке, выдвинул большое кресло на середину комнаты, дабы предстать перед нами настоящим оратором, обращающимся с речью к публике. Развернув кресло к нам спинкой, он вскарабкался на него и с этой импровизированной кафедры обратился к нам со следующими словами:
– Ну, мои добрые, дорогие друзья, – (он всегда говорил «мои добрые, дорогие друзья», когда хотел сказать «мои бесценные друзья»), – слушайте меня. Настало время… Я объявляю мое приятное известие… Я наконец могу говорить.
– Слушайте, слушайте! – вскричала матушка, подхватывая шутку своего любимца.
– Ну вот, теперь он разломает спинку нашего лучшего кресла, мама, – шепнула Сара.
– Я вернусь в прошлое, чтобы оттуда вновь обратиться к благороднейшему из существ, – продолжал Песка, яростно указывая из-за спинки кресла на мою недостойную персону. – Кто нашел меня мертвым на дне морском (по милости судорог)? Кто вытащил меня из воды? И что я сказал, когда снова возвратился к жизни и моей одежде?
– Гораздо более, нежели было нужно, – отвечал я как можно угрюмее, потому что малейшее поощрение в подобных случаях неизбежно вызывало у разволновавшегося профессора потоки слез.
– Я сказал, – настаивал Песка, – что отныне моя жизнь принадлежит моему дорогому другу Уолтеру, – так оно и есть. Я сказал, что я не буду счастлив до тех пор, пока мне не выпадет случай сделать для Уолтера что-нибудь хорошее, – и действительно, я не мог обрести покой до нынешнего блаженного дня. Сегодня, – воскликнул восторженный маленький человечек пронзительным голосом, – избыток счастья вырывается из каждой поры моего тела, потому что, клянусь моей верой, душой, честью, обещание мое наконец исполнено, и вот, что я еще имею сказать: «Все-все хорошо!» Среди знатных лондонских домов, где я преподаю мой родной язык, – без всякого предисловия начал профессор свое долго откладываемое объяснение, – есть один в высшей степени знатный, на площади Портленд. Вы все знаете, где это! Да, да, разумеется! В прекрасном доме, мои милые друзья, живет прекрасное семейство. Мама́ – толстая и красивая, три дочки – толстые и красивые, два сына – толстых и красивых, и папа́ – самый толстый и красивый из всех, богатый купец, купающийся в своих миллионах. Некогда он слыл красавцем, но так как теперь у него лысина и двойной подбородок, то он уже более красавцем называться не может. Теперь слушайте! Я учу молодых девиц понимать великого Данте. И, помилуй меня Господь, нет слов, чтобы выразить, как труден великий Данте для этих трех хорошеньких головок! Но это ничего, все придет в свое время; чем больше уроков, тем лучше для меня. Теперь слушайте! Представьте себе, что сегодня я занимаюсь с барышнями, как обычно. Мы все четверо спустились в ад Данте. В седьмом кругу – впрочем, для трех толстых и красивых барышень все круги равны! – мои ученицы завязли, а я, чтобы помочь им выбраться, объясняю, рассказываю, выхожу из себя от бесполезного энтузиазма, как вдруг в передней раздается скрип сапог и входит Золотой папа́, богатый купец с лысиной и двойным подбородком. Ну вот, мои милые друзья, я ближе к сути моего рассказа, чем вы думаете! Осталась ли у вас еще хоть капля терпения, или вы уже сказали про себя: «Черт побери, неужели Песка сегодня не закончит!»
Мы заявили, что нам очень интересно.
Профессор продолжил:
– Золотой папа́ держал в руке письмо; извинившись, что помешал нам в нашей адской обители из-за простого земного дела, он обратился к трем барышням и начал, как вы, англичане, начинаете все ваши разговоры, громким «О!». «О мои милые! – сказал богатый купец. – Я получил сегодня письмо от моего друга мистера…» Имя выскользнуло у меня из памяти, но не беда: мы еще вернемся к нему, да-да, именно! Итак, папа́ сказал: «Я получил письмо от моего друга мистера такого-то… Он просит меня рекомендовать учителя рисования к нему в имение». Господи помилуй! Когда я услышал эти слова, я готов был броситься на шею к Золотому папа́, если бы только я был повыше и мог до нее достать, чтобы прижать его к своей груди крепко и признательно, но я только подпрыгнул на своем стуле. Я сидел как на иголках, душа моя горела и рвалась, мне хотелось заговорить, но я прикусил язык и дал папа́ закончить. «Быть может, вы знаете, – сказал этот богач, помахивая письмом своего друга, – быть может, вы знаете, мои милые, какого-нибудь учителя рисования, которого я мог бы рекомендовать?» Барышни переглянулись между собой, а потом ответили с неизменным «О!» в начале: «О нет, папа́! Но вот мистер Песка…» Услышав свое имя, я уже не мог больше сдерживаться – мысль о вас, мои дорогие, заполонила все мое сознание, – я вскочил со стула как ужаленный и обратился к богатому купцу, как настоящий англичанин: «Дорогой сэр, я знаю такого человека! Отличнейшего учителя рисования, другого такого не сыскать в целом свете! Рекомендуйте его с сегодняшней же почтой, а завтра, с утренним поездом, отправьте и его самого, со всеми его пожитками». (Ха! Еще один чисто английский оборот!) «Постойте, постойте! – сказал папа́. – Иностранец он или англичанин?» – «Англичанин до кончиков ногтей», – ответил я. «Порядочный человек?» – спросил папа́. «Сэр, – сказал я (потому что последний вопрос оскорбил меня и я прекратил с богачом дружественный тон), – сэр, бессмертный огонь гениальности горит в груди этого англичанина, но что еще важнее, он горел и в груди его отца!» – «Пустяки, – сказал этот Золотой варвар-папа́, – нам нет дела до его гениальности, мистер Песка. В нашей стране мы не нуждаемся в гениальности, если только она не идет рука об руку с порядочностью, а когда это случается именно так, мы рады, очень рады, право! Может ваш друг представить рекомендательные письма, которые свидетельствовали бы в его пользу?» Я небрежно махнул рукой и воскликнул: «Рекомендательные письма? Господи помилуй, ну конечно! Целые тома рекомендательных писем, если вам угодно!» – «Одного или двух будет вполне достаточно, – сказал этот флегматичный богач. – Пусть пришлет их мне, указав свое имя и адрес. Постойте, постойте, мистер Песка, возьмите записку об условиях работы – о том, что он должен будет делать… Продолжайте урок, мистер Песка, а я дам вам необходимую выписку из письма моего друга». И вот обладатель товаров и денег берется за перо, чернила и бумагу, в то время как я со своими тремя ученицами вновь погружаюсь в Дантов ад. Через десять минут выписка готова, и скрип сапог папа́ стихает в отдалении. С этого момента, клянусь моей верой, душой и честью, я позабыл обо всем! Блаженная мысль о том, что я наконец дождался случая и могу услужить моему дражайшему другу, вскружила голову и опьянила меня. Как я вытащил трех барышень и самого себя из адской обители, как провел потом другие свои занятия, как проглотил свой скромный обед – обо всем этом я знаю не более, чем человек с Луны. Для меня довольно и того, что я здесь, перед вами, с запиской богатого купца в руках, необъятный, как жизнь, горячий, как огонь, и счастливый, как король! Ха-ха-ха! Прекрасно! Прекрасно!
Тут профессор замахал над головой запиской об условиях и закончил свой длинный и многосложный рассказ пронзительной итальянской пародией на английское радостное «ура».
Едва он замолчал, матушка встала со своего места, с разгоревшимися щеками и блестящими глазами. Она с жаром схватила профессора за обе руки и произнесла:
– Мой милый, добрый Песка, я никогда не сомневалась в вашей истинной привязанности к Уолтеру, но теперь убедилась в ней еще больше, чем прежде.
– Мы очень обязаны профессору за Уолтера, – добавила Сара.
С этими словами она привстала, словно намереваясь в свою очередь подойти к креслу Пески; но, увидев, что Песка с восхищением целует руки моей матушки, приняла серьезный вид и снова села на свое место. «Если этот фамильярный человек таким образом ведет себя с матушкой, как же он будет вести себя со мной?» Иногда на человеческих лицах отражаются самые сокровенные мысли. Несомненно, Сара думала именно так, когда садилась.
Хотя я и был признателен Песке за его старания оказать мне услугу, меня не очень обрадовала неожиданно открывшаяся перспектива. Когда профессор перестал целовать руки матушки, я горячо поблагодарил его и попросил позволения взглянуть на условия, которые его уважаемый патрон записал для меня.
Песка торжественно вручил мне бумагу.
– Читайте! – воскликнул маленький человечек, принимая величественный вид. – Уверяю вас, друг мой, что записка Золотого папа́ говорит сама за себя.
Условия были изложены откровенным и весьма доступным образом.
Меня уведомляли: во-первых, что Фредерик Фэрли, эсквайр, из Лиммеридж-Хауса в Камберленде, желает иметь искусного учителя рисования сроком на четыре месяца. Во-вторых, что обязанности, которые учитель должен взять на себя, будут двоякого рода: обучать двух молодых леди искусству писать акварели, а в свободное время приводить в порядок ценную коллекцию рисунков, находящуюся в настоящий момент в крайнем небрежении. В-третьих, что жалованье человеку, который возьмется должным образом исполнить вменяемые ему обязанности, – четыре гинеи в неделю; что он должен жить в Лиммеридж-Хаусе и что с ним будут обращаться как с джентльменом. В-четвертых и в последних, что претендовать на это место может лишь тот, кто в состоянии представить самые подробные рекомендации в отношении своей личности и профессиональных знаний. Рекомендательные письма должны быть отосланы другу мистера Фэрли в Лондон, который уполномочен заключить договор. Записку завершали имя и адрес купца, в доме которого Песка давал уроки.
Безусловно, это было очень соблазнительное предложение. Работа, по-видимому, обещала быть легкой и приятной; к тому же мне предлагали ее на осень, а в это время года я был обычно наименее занят; да и вознаграждение, насколько я мог судить по собственному опыту, отличалось удивительной щедростью. Я понимал все это; я понимал, что я должен радоваться, если мне удастся получить это место. Однако, едва прочитав условия, я почувствовал какое-то необъяснимое нежелание браться за эту работу. Никогда прежде я не испытывал такого мучительного и необъяснимого разлада между моим долгом и моими желаниями.
– О Уолтер, твоему отцу никогда не выпадала такая удача! – сказала матушка, в свою очередь прочитав записку с условиями и вернув ее мне.
– Лестно познакомиться с такими знатными людьми, – заметила Сара, выпрямившись на стуле, – да еще быть с ними на равной ноге!
– Да-да, условия во всех отношениях довольно заманчивы, – перебил я ее нетерпеливо, – но прежде чем я отправлю рекомендации, я хочу все обдумать…
– «Обдумать!» – воскликнула матушка. – Уолтер, что с тобой?
– «Обдумать!» – эхом вторила матушке сестра. – Какие странные вещи ты говоришь, когда предлагаются такие условия!
– «Обдумать!» – подхватил профессор. – Что здесь обдумывать? Отвечайте мне! Разве вы не жаловались на плохое самочувствие и не мечтали подышать деревенским воздухом? Ну?! В ваших руках бумага, предлагающая вам это удовольствие на целых четыре месяца. Не так ли? Кроме того, вам нужны деньги. Ну?! Разве четыре гинеи в неделю ничего не значат? Господи помилуй! Дайте их мне, и мои сапоги заскрипят так же, как у Золотого папа́, который подавляет всех своим богатством. Четыре гинеи в неделю, и к тому же очаровательное общество двух молодых леди! Более того, вы получаете постель, завтраки, ужины, великолепные английские чаепития и ленчи и пенящееся пиво – и все это даром! Ну же, Уолтер, мой добрый, милый друг, какого черта, первый раз в жизни я не могу надивиться на вас!
Но ни искреннее недоумение матушки, вызванное моим поведением, ни пылкое перечисление Пески всех предлагаемых мне благ не могли поколебать моего странного нежелания ехать в Лиммеридж. Все изложенные мной доводы против поездки в Камберленд, какие только могли прийти мне в голову, к моему великому огорчению, были отвергнуты, тогда я упомянул о последнем препятствии, спросив, что станется с моими учениками из Лондона, пока я буду учить молодых девиц мистера Фэрли рисовать с натуры. На это мне возразили, что бо́льшая часть учеников на осень разъедется, а тех немногих, кто останется в городе, я вполне могу поручить одному из своих коллег, чьих учеников я однажды брал на попечение при подобных же обстоятельствах. Сестра напомнила мне, что он предлагал свою помощь на случай, если бы мне нынче вздумалось уехать из Лондона. Матушка уговаривала меня не вредить из пустого каприза моим собственным интересам и здоровью, а Песка жалобно молил, чтобы я не огорчал его отказом от услуги, которую он предлагает своему другу, спасшему ему жизнь, в качестве благодарности.
Искренняя любовь и привязанность, стоявшие за этими уговорами, тронули бы любого, в ком живо еще сердце. Я устыдился своего необъяснимого предубеждения, хоть и не мог побороть его, и мирно закончил спор, пообещав сделать все, чего от меня ожидали.
Остаток вечера прошел довольно весело в многочисленных предположениях насчет моей будущей жизни с двумя молодыми девушками в Камберленде. Песка, вдохновленный нашим национальным грогом, который, по-видимому, самым чудесным образом бросился ему в голову, предъявил свои права на то, чтобы его считали настоящим англичанином; один за другим он произносил спичи и провозглашал тосты за здоровье моей матери, здоровье моей сестры, мое здоровье, а также здоровье мистера Фэрли вкупе со здоровьем двух молодых леди, причем тут же восторженно благодарил самого себя от лица всех нас.
– Скажу вам по секрету, Уолтер, – заявил мой маленький друг, когда мы возвращались вместе домой, – я в восторге от своего красноречия. Мою душу переполняет честолюбие. Наступит день, и я вступлю в ваш парламент. Стать достопочтенным Пеской, членом парламента, – вот мечта всей моей жизни!
На следующее утро я послал рекомендательные письма патрону Пески на Портленд-Плейс. Прошло три дня, и я уже было решил, в душе испытывая удовольствие, что мои рекомендации оказались недостаточными. Однако на четвертый день я получил письмо, в котором сообщалось, что мистер Фэрли принимает мои услуги и просит меня немедленно выехать в Камберленд. Все подробности относительно моего путешествия были заботливо объяснены в постскриптуме.
С большой неохотой я собрал вещи, чтобы рано утром на следующий день покинуть Лондон. Ближе к вечеру, по дороге в гости, ко мне зашел попрощаться Песка.
– В ваше отсутствие, – весело сказал профессор, – я буду утешаться мыслью, что именно с моей легкой руки ваша карьера пошла в гору. Поезжайте, мой друг! Когда ваше солнце засияет в Камберленде, ради бога, не упускайте случая: женитесь на одной из двух молодых девиц, получите в наследство тучные земли Фэрли и сделайтесь достопочтенным Хартрайтом, членом парламента, а когда окажетесь на самой вершине, вспомните, что все это сделал Песка там, внизу!
Я попытался рассмеяться над прощальной шуткой моего маленького друга, но тщетно. Отчего-то в груди у меня болезненно щемило, пока профессор произносил свое напутствие.
Все было готово к отъезду, осталось только пойти в хэмпстедский коттедж проститься с матушкой и Сарой.
IV
Весь день нас мучил изнуряющий зной, и даже к ночи жара ничуть не спа́ла.
Матушка и сестра так много хотели сказать мне на прощание, столько раз просили меня остаться еще на пять минут, что было уже около полуночи, когда слуга затворил за мной калитку сада. Я сделал несколько шагов по кратчайшей дороге в Лондон и остановился в нерешительности.
Полная яркая луна плыла по темному беззвездному небу; холмистая местность, поросшая вереском, в таинственном свете луны казалась дикой, словно я находился за сотню миль от большого города. Мысль вскоре вернуться в жаркий и мрачный Лондон вызывала у меня отвращение. Перспектива ночевать в комнате, лишенной воздуха, представлялась в моем тревожном расположении духа и тела тем же, что сознательно согласиться на постепенное удушение. Я решил пройтись по свежему воздуху, для чего выбрал самый дальний путь в Лондон через продуваемую легким ветерком вересковую пустошь, с тем чтобы вернуться в город со стороны его наиболее открытого предместья по финчлейской дороге и по утренней прохладе пробраться к себе домой, на западную сторону Риджентс-парка.
Я медленно шел через холмистую пустошь, наслаждаясь торжественной тишиной природы и любуясь мягкими переливами лунного света и теней по обе стороны от меня. Пока я проходил по первой и самой красивой части моей ночной прогулки, душа моя бессознательно воспринимала впечатления, которые производила на меня природа, я ни о чем не думал, решительно ни о чем.
Однако стоило мне свернуть на проселочную дорогу, где было менее красиво, как в голове моей мелькнула мысль о приближавшейся перемене в моих привычках и занятиях, и эта мысль мало-помалу захватила меня целиком. Когда я дошел до конца дороги, я был уже полностью поглощен радужными мечтами о Лиммеридже, мистере Фэрли и двух молодых леди, чьим наставником я вскоре стану.
Я остановился на перекрестке, отсюда четыре дороги расходились в разные стороны: в Хэмпстед, откуда я шел, в Финчли, в Вест-Энд и в Лондон. Я машинально свернул на последнюю и зашагал по пустынной дороге, беспечно размышляя, насколько мне припоминается, какими предстанут моим глазам камберлендские леди, как вдруг кровь в моих жилах застыла от прикосновения чей-то руки, легко и внезапно коснувшейся моего плеча.
Я резко обернулся, крепче сжимая в руке трость.
Передо мной, возникшая словно из ниоткуда, в полном одиночестве стояла женщина, с ног до головы одетая во все белое. На ее обращенном ко мне лице застыл вопрос, в то время как рукой женщина указывала на мрачное облако, нависшее над Лондоном. Неожиданность, с какой это необыкновенное существо очутилось передо мной ночью и в таком пустынном месте, до того испугала меня, что я не мог проронить ни слова. Странная женщина заговорила первой.
– Это дорога в Лондон? – спросила она.
Я внимательно поглядел на нее, когда она задала мне этот вопрос. Было около часа ночи. Лунное сияние позволило мне ясно различить только бледное, молодое, изможденное лицо незнакомки, ее большие печальные, пристально смотревшие на меня глаза, нервные, трепетавшие губы и белокурые волосы светло-каштанового оттенка. В ее поведении не было ничего грубого или неприличного: она была тиха и сдержанна, немного грустна и немного настороженна. Манерами она не походила на знатную даму, но в то же время ее нельзя было назвать простолюдинкой. Ее голос, хотя я слышал его так мало, звучал изумительно ровно и как-то механически, говорила она очень быстро. В руке незнакомка держала небольшую сумочку; ее одежда – шляпка, шаль и платье – были из белой и, по всей вероятности, не из самой дорогой ткани. Она была несколько выше обыкновенного роста, тонка и стройна; походка и движения ее не отличались никакой особенностью. Вот все, что я мог заметить при тусклом свете луны, еще не придя в себя от ошеломляющих обстоятельств нашей встречи. Кто была эта женщина и как очутилась она одна на большой дороге в час ночи, я решительно не мог догадаться. Я был уверен лишь в том, что никто не увидел бы в ее вопросе, даже заданном в столь поздний час и в столь подозрительном месте, дурных намерений.