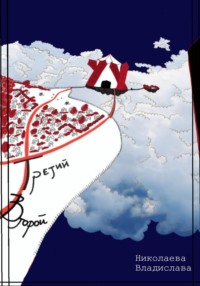Kitobni o'qish: «Третий»

Август, 31
Пасмурно. Сумерки гуще, чем могли бы быть летним вечером. Пыль прибита к дороге прошедшим днём дождём. Тучи сдвинулись дальше на северо-запад, продолжая сыпать затяжным прохладным ливнем без молний, дышалось теперь легко, но людей с улицы сдуло. От силы три-четыре прохожих в десять минут, шасть до магазина и обратно, все местные, из соседних домов.
Таксист, не прикрываясь, зевнул, сжимая пальцы на затянутом чехлом руле. Зевнул так, что в челюстях щёлкнуло. Машина стояла у обочины, не шикарная и не совсем уж завалящая. С оглядкой на дождь можно было бы рассчитывать на обилие клиентов, но общественность решила прибегнуть к крайнему средству экономии и не выходить из дома вообще. Пробежит кто-нибудь в натянутом на макушку капюшоне, прихватит в продуктовом кефир и батон на сон грядущий и так же петляющим между лужами зайцем скачет домой.
Перед носом машины степенно прошествовала фигура, держащая за горло непочатую бутылку. Водитель проводил неизвестного взглядом. Всем понятно, что ничего сегодня уже не будет, никто, промоченный насквозь, не станет со стоном просить довезти домой на другой конец города, никто не выскочит из двора с защемленным в чемодане галстуком и не прокричит, что опаздывает в аэропорт. День кончился. Воздух пахнет дождём и детской безнадёгой. Водитель хмыкнул, злорадствуя, что сын и дочь-школьники с завтрашнего дня перестанут провожать его на работу сонными «иди-иди».
Таксист трусовато оглянулся, будто опасался начальственного взгляда, и тихонько тронул машину к дому.
Высокий мужчина в небрежно расстёгнутой ветровке, но с натянутым на глаза капюшоном проследил за медленно выруливающим синим фордом с колпачком такси на крыше. Рука продолжала сжиматься на горле коньячной бутыли. Он стоял на светофоре, регулирующем самый длинный переход перекрёстка. Ещё один наблюдатель сжался от холода под навесом остановки. Оттуда наблюдать было бы удобнее и подозрений никаких, но от остановки до метки было дальше.
Сергей Иванович незадачливо остановился против светофора, не успев на какие-то секунды миновать дурацкий переход. Кто только додумался установить светофор на этой козьей тропе? От берега до берега четыре метра, ровно двум машинам проехать. Сергей Иванович глянул налево и направо – ни двух, ни одной. Оглянулся – никого, только, на другой стороне, слева, собрат по несчастью ждёт разрешения на переход. Но там и дорога серьёзней и ждать почему-то меньше. Сергей Иванович приметил в руке стоящего характерный предмет, ещё раз постно и неодобрительно посмотрел на закрытое капюшоном лицо, хотя с такого расстояния из-за близорукости черт разобрать не мог. Остановка отсюда представлялась пустой, троллейбусы не идут, поздно уже, ночь настала. Только продуктовые ещё работают.
Взрослый порядочный человек, Сергей Иванович, окинул светофор ещё одним кислым взглядом, убедился, что двухцветный фонарь намерен отнять из его жизни лишь пятьдесят четыре секунды, вздохнул и решил ждать. Не навесила бы жена в дорогу прихватить мусор, прошёл бы светофор как раз вовремя. Сколько мусор выкидывал? Как раз с полминуты. Подошёл бы к переходу за пять-десять секунд, самое то и не подбегал бы а-я-якая, чтобы окончательно убедиться – опоздал. Сергей Иванович, терпеливый муж, вздохнул повторно. Справедливости ради, если бы не супруга, вообще бы не потащился в магазин на ночь глядя. Что за женщина? Чтобы с бухты барахты, к ночи, кончилось растительное масло! И конечно не жить ей без растительного масла до завтрашнего утра, когда бы сама проснулась да сходила…
Сергей Иванович испустил очередной сокрушительный вздох и покосился на светофор – красные цифры показывали ещё сорок семь секунд. Сергей Иванович не сдержал ещё один вздох.
И ведь пусто совсем на улице, даже штрафовать некому, не спрятались бы, хотя, думается, только ради штрафов и стоило это недоразумение держать – ну никакого толку! Столько лет стояла дорога, кто бы когда подумал, что в регулировке нуждается, ни одной аварии, с 1979, с тех пор, когда её только положили, с тех пор как её на чертеже обозначили…
Сергей Иванович переступил с ноги на ногу, мня что правая заболела, и бросил взгляд на светофор – сорок три секунды. Сплюнул в грязь у бордюра, неловко взобрался на него, балансируя, обозначая серьёзность своих намерений.
На улице совсем пусто. Тот, с бутылкой, уже дождался своего зелёного и уже его профукал, видать, ждал чего-то другого. По широкой дороге медленно проезжали одна за другой машины. Там-то они ездили!
Сергей Иванович с внутренним беспокойством услышал приближающийся смех. Девчонки-подростки, шляются по ночам, родителей на них нет…
Мужчину кольнула мысль – не над ним ли смеются? Что стоит, как дурак, у пустой дороги – ни справа ни слева ни единой машины – стоит и боится, глупый, выживший из ума старик.
Сергей Иванович побагровел, одёрнул низ наглухо застёгнутой ветровки. Не так уж он стар! Это глупые подростки могут думать, что он почти труп, а он в пятьдесят восемь на тот свет вовсе не собирался! Сергей Иванович поджал губы, сделал вид, что он здесь недавно, и решительно шагнул на дорогу, встал на неё обеими ногами, пошёл.
С полоумным рёвом пронеслась машина, натужно заскрипели рессоры, прочертили на встречную, не удержавшись, шины. Бежал на красный, уворачиваясь от бамперов, человек с бутылкой. Из павильончика остановки выскочил невысокий сухощавый субъект и тоже побежал…
Сергей Иванович лежал на боку на дороге. Перевернулся несколько раз, будто ворочался на кровати, и затих. Если не знать, что случилось, можно было подумать, что пьяница неудачно выбрал место для отдыха. В чуть грязной одежде, в прилипшем с земли соре, подтверждающем, что пьянчуга не первый раз пристраивается прикорнуть, преодолевая по-видимому долгий путь домой.
Высокий человек, незаметно расставшись с бутылкой, стал на колени перед Сергеем Ивановичем и потянулся к шее щупать пульс. Отдёрнув руку, не вставая с колен и уперев теперь обе ладони в пояс, он длинно, не стесняясь, выругался.
Глаза злобно блеснули из-под капюшона в сторону светофора. Второй, добежав, расстроенно остановился, опустив голову. К месту аварии собирались редкие прохожие. Девчонок-подростков среди них не было.
Август, 31
Пашка бежал босой, отбивая ступни кочками.
– Пожар! Пожар! – кричал он по пути, совместив оповещение соседей с порученным делом. Бежал за вёдрами, не жалея уже ноющих от ударов ног.
Происшествие застало на пляже. Готовились жарить шашлык, уже в темноте, под навесом, учитывая с утра собиравшиеся тучи, дело всё откладывалось, но уже было невмоготу и откладывать некуда, завтра на учёбу; декан зловредно назначил три пары, несмотря на праздник. Проводы августа не задались, купаться под моросью не захотелось, загорать, как и играть в волейбол тоже, но студенты не готовы были вот так сдаться и не отведать шашлыка.
Пожар начался вовсе не по их вине, у них всё шло своим чередом, не очень быстро, но довольно аккуратно. Загорелся большой дом в прямой видимости. Пашка с другом, Костей, сначала подумали, что тоже кто-то взялся шашлыки жарить, а потом полыхнуло так, что уже без сомнений…
– Пожар! Пожар! – прокричал Пашка, тяжело дыша. Участок его деда был с противоположной стороны, но добежать до своего дома всё равно было быстрей, чем выпрашивать инвентарь с ближайших домов, тем более там есть кому…
Пашка отпихнул выскочившего навстречу деда на качели, сгрёб вёдра, и не теряя времени на объяснения, побежал обратно, не чуя отбитых ног.
На место прибыл задыхаясь и хрипя лёгкими. Счас толпой быстро наляжем, потушим, и шашлыки вкуснее станут, весело думал Пашка, торопясь, и совсем не переживая, что где-то на пути порезался. Эпицентр легко определялся по хлопающему звуку расходящегося пожара. Пашка срезал, пользуясь тем, что с детства округу облазил, видимо, так и порезался где-то, но это неважно, заживёт…
Среди своих ребят стояли какие-то ещё, заметно старше, с автомобильными огнетушителями, вёдрами, лопатами. Никто не двигался. Пашка разглядел на всех лицах, даже у Ксюшки полосы сажи. Глаза завороженно отражали блики и всполохи. Никто не действовал. Пашка, несколько удивлённо, бросил Косте под ноги вёдра. Костя едва на него глянул и вернул взгляд на кострище.
Когда Пашка уже стал думать, чего такое странное случилось, Ксюшка всё же заговорила:
– Не берёт ничего… – девчонка всхлипнула, – как будто топливом облили… уже пожарных, милицию и скорую вызвали… Паш, мы голос слышали…
Она разревелась и, зажимая ладонями ставшее непривлекательным, искажённое плачем лицо, пошла куда-то в сторону.
Пашке стало тоскливо и холодно – пошёл дождь. Заболели ноги. Дом полыхал как стог сена, будто и правда подсобили чем горючим…
Кто-то из незнакомцев вздохнул и пошёл со своими вёдрами уныло на пару с дождём поливать соседские заборы.
Проводили лето…
Пашка опомнился – шашлыки на пляже, щас пожарные нагрянут, и вообще – какие теперь шашлыки?!
Август, 31
В торцевом подъезде длинной панельной многоэтажки, напичканной конторками и магазинчиками, располагался рабочий кабинет потомственной ведьмы Ираиды. Многоэтажку возвели в столице в период строительного бума, поэтому качество возведённого жилья легко объяснялось быстротой застройки и скудностью материалов. Комнатки в квартирках были маленькие, стенки тоненькие и непрочненькие, да и сам дом, пробыв на вид приличным и новым пару лет, старчески посерел и отсырел. Первый этаж алчно откусил малый бизнес. Жильцы с этажей повыше были от этого не в восторге и судились за право входить в свой дом без проблем, иметь доступ к подвалу, не ждать шума в неурочный час и не иметь счастья травить магазинных тараканов дихлофосом, но иски пропадали втуне – среди контор имелось не менее трёх юридических, конкуренция стояла бешеная, кому-то время от времени да и не было чем заняться, кроме как отстоять у неподкованных юридически жильцов право на сохранение площади.
Артистично обставленный кабинет ведьмы не имел конкурентов ни в одном подъезде. Не было конкуренции и на протяжении трёх километров в любую сторону. Голубая дверь оставалась открытой с двух пополудни и до одиннадцати и мягко хлопала чаще, чем солидные двери юридических контор. У Ираиды была репутация.
Ведьма находилась в маленькой комнатке за кабинетом, сделанным комфортным для клиентов с клаустрофобией с помощью перфоратора и прежде двух раздельных помещений. Подсобная комната – нужная вещь в любой профессии. У каждой профессии свои тайны, пусть даже максимум, что требуется, попить чай без свидетелей. Ираида пила здесь зелёный чай, чтобы не было налёта на зубах, но сейчас она была в комнате не за этим. Клиенту полезно посидеть в одиночестве и подумать, чего он наконец хочет. Во-вторых, человек с репутацией не несётся работать очертя голову. Он знает цену своему вниманию. Ираида могла хладнокровно и неторопливо выпить ту же самую чашку чая, пока клиент ёрзал на стуле, сомневаясь, стоило ли ему вообще приходить. Другая на её месте забеспокоилась бы, что клиент сорвётся вместе с гонораром, но ведьма Ираида заслужила, а не придумала свою репутацию. Кроме того, как любой опытный профессионал, она радовалась, когда можно было не работать.
Клиент, зрелый мужчина с несчастным и растерянным лицом, в пиджаке и с хорошими часами, терзался в удобном кресле для посетителей. Он держал руки на столике, когда не дёргал ими галстук и воротник рубашки. Волосы его были пострижены коротко, из-за чего были заметны наметившиеся на лбу залысины. Он смущённо бросал взгляды на козий череп на подставке, на оставленный на столе веер из иссиня-чёрных вороньих перьев, на ониксовые руны, деревянную ступку с недотёртым чёрным порошком на дне, на хрустальные цацки и завешанное зеркало, на чёрные и красные витые свечи в серебристых канделябрах, на развешанные вдоль стены веники трав.
Ираида хмыкнула про себя и подправила у зеркала макияж и грудь в декольте. Пора.
Потомственная ведьма вынеслась в кабинет кружевным смерчем. Медузьим плавником замедленно опал подол длинного чёрного платья, завязанного по талии цыганским платком.
Клиент туго сглотнул комок, подняв глаза.
– Я… вам, наверное, надоел…
Ираида сидела на своём месте напротив, сложив на груди руки. Про мужчин так говорится, а ведьма сложила руки под декольте, отчего скрытое выкатилось явственней. Если клиент и надоел, ведьма не подала виду. Что-то презрительное, насмешливое в её лице было всегда. Накрашенные губы кривились, правый глаз чуть щурился.
Анонимный клиент, про которого Ираида знала больше, чем хотелось бы, лепетал свою историю. Женитьба на дочери перспективного начальника, рост начальника, послуживший стимулом к обзаведению потомством, движение по пятам начальника, жизнь, как у Христа за пазухой, отъезд жены с ребёнком к родственникам, потребности молодого мужчины, любовь, измена, начатый бракоразводный процесс, сопряжённый с движением по карьерной лестнице в обратную сторону, глубокая печаль и возросшая любовь к жене… Ираида уже не слушала, только ждала, когда из не самого мужественного рта вывалятся все слова.
Дождавшись, выдала привычную знающую улыбку, демонстрирующую готовность, так и быть, уделить внимание и толику недюжей силы на утоление страдания и любопытства очередного страждующего.
Ираида вытянула из-под полы тяжёлую колоду. Клиент с энтузиазмом покивал. Значит, действительно ничего нового не говорил. Было бы удивительно, если бы старый клиент явился с новой оригинальной проблемой… иногда, как опытному профессионалу, жаль…
Ираида мешала карты, рассеяно слушая, как за спиной клиента в дверь барабанят капли дождя. Руки отточено делали своё дело, без ошибок в раскладе. Ведьма опустила тёмные глаза, чтобы забить ещё один гвоздь в крышку гроба развалившегося брака.
Минуту она просто смотрела. Выражение её лица заставило клиента побледнеть, как будто Ираида ещё не озвучивала максимально неприятный для него вариант в прошлые два визита.
– Это что ещё такое? – потребовала она у клиента строгим голосом, показывая карту.
Август, 31
Первая капля ударила в окно, и за ней по стеклу побежала волна. Кто-то по другую сторону, вылавливая из общего потока отдельные капли, касается их указательным пальцем и проводит до подоконника. Ударил гром. Через щели в оконной раме просачивается запах озона.
Трубка устаревшего чёрного телефона с когда-то белым, пожелтевшим диском ровно лежит на рычаге. На письменном столе слева от стопки мелко исписанной от руки бумаги стоит белая чашка с недопитым кофе. Подоконник за не до конца отдёрнутыми шторами пуст, от него тянет сквозняком. Вся комната пахнет чем-то старым, чем-то старческим: старой пластмассой, лежалой бумагой и лекарствами. До горечи. Только озоновый воздух, проникающий сквозь щели в деревянной раме, свеж. А озон – яд.
Посреди стола открытый ежедневник. На пустой странице дата – 31 августа. Ветер полощет страницы, перебирает. Вопреки логике сквозняк не интересует текст, примятые у корешка записи оставлены в покое, перелистываются только чистые, всё дальше и дальше, хотя ветер не так и силён по эту сторону рамы.
На кухне женский голос подпевает джазу. Старый радиоприёмник с хрипом выдыхает музыку. Жизнерадостные мотивы поглощает глухота пасмурного вечера. В коридоре и зале темно из-за грозовых туч, шторы открыты не до конца, только из кухни на пол падает треугольник электрического света. Входная дверь притворяется без звука. В подъезде сумрак, сыро и серо, лампы не горят. Никого.
День не по-летнему тёмный и пасмурный. Через полчаса одежда и обувь совсем промокают, дождь не думает прекращаться, льётся второй час без перебоя.
Впереди только парк, нужно поторопиться. Однорукая посеребрённая скульптура на массивном постаменте зовёт вперёд. Туда, откуда пришла девушка из плоти. Назад, отсюда. Скульптура смотрит через арку входа серьёзными и строгими глазами цвета алюминия, намекая на что-то. Единственная уцелевшая вытянутая рука твёрдо показывает вернуться.
Девушка зябко повела плечами. Дальше по парковой дорожке. Шаги шлёпают по лужам. Более мокрой можно стать лишь искупавшись. Мокрые волосы, мокрое лицо, мокрая спина, насквозь мокрые ноги, шмыгает холодный нос, по подбородку сбегают не капли, а ручейки, затекают за ворот. Под таким дождём можно утонуть посреди парка.
Надо спешить, но всё же… Остановилась, чтобы глубоко вздохнуть и избавиться наконец от этого чувства – будто сердце зажато в тиски. И ещё… словно преследует кто-то, по пятам идёт… Поёжилась. Нутро сжато, как вязкой зелёной хурмой – не вдохнуть. Обшарила глазами местность за спиной. Запущенный неухоженный парк и дождь стеной. Никого. Никто сюда не ходит, кроме неблагополучных подростков. В дождь их тут тоже нет. Зловещее место, чем-то неприятное, как место, где кого-то убили…
Тут – свист. Нарастающий, похожий на звук пролетающего самолета. Не соображая, посмотрела наверх. Зрачки расширились. Быстро. Ничего не сделать. Ни отбежать, ни упасть, ни закрыть лицо и голову, ни испугаться.
…когда-то в самом начале был пронзительно тихий момент, такой тихий, что понятно – оглохла. Звуки вернулись быстро, так должно было быть, но время решило замедлиться, и всё замедлилось. Первым, что различили глаза, была воткнувшаяся в запястье ветка. Или сначала была боль от её укола? Сложно сказать. Впечатления начали путаться сразу. Наверное, сначала действительно была боль, ещё до глухоты и до того, как глаза снова обрели способность видеть.
От низа живота растеклось тепло. Ощущение было скорее приятным, но оно быстро прошло. Стало удушающе жарко, ветка протыкала запястье, втирая грязь в плоть и кровь, руку свело от спазма, другую прищемило расщеплённым стволом упавшего дерева, со лба в глаза полилась липкая кровь, загорелась, опаляя спину, одежда, ноги оставались бесчувственными, закашлялась, задыхаясь, пламя разгоралось, в ушах трещало, треск огласил дикий, животный визг, запахло отвратно, запахло жжёной плотью, пламя лизнуло волосы, волосы легко вспыхнули, ожгло шею, визг нарастал, лилась вода, и лужи густели от крови, грязь забивалась в порезы…
Глаза ослепли. Мутные силуэты хаотично перемещались наверху, невнятные, лишённые контуров и тем более лиц. Донимала боль в неудачно повёрнутой шее. Тело не подавало иных знаков. Ватное ощущение.
– Имя!
Резкий голос неприятно царапнул мокрые уши.
– Аааа…
– Имя!
Слова тупыми иглами протыкали облака ваты, отгородившие от живых людей, и падали тягучими смоляными каплями на грудь. В новом мире она была жёлтой пастилкой, на которую многократно наступал невидимый каблук, она трескалась и трескалась у себя перед глазами, будто наблюдая за этим со стороны. Но ей было совершенно ясно, что пастилка это именно она, потому что тело каждую секунду подтверждало свою непоправимую разбитость. Так было даже лучше, всё наконец вставало на свои места в логической цепи… упавшую пастилку никто не ищет, она никому не нужна.
Снились какие-то хирургические операции, трубки, перекачивающие кровь, глаза в пластмассовых очках над зелёными масками, повторяющиеся ритмичные гудки, мониторы, показывающие яркие неровные линии…
Это было не совсем приятно, но она надеялась, эти сны пройдут со временем. Наяву она была пастилкой. Или старой красной шерстяной ниткой, которая бесконечно сворачивалась в необозримый клубок. Быть пастилкой было легче. Каблук мягко крошил её, и становилось почти совсем не больно, только что-то пульсировало внутри. Нитка – другое дело, её длина удручала, казалось, кончик никогда не появится, клубок не будет смотан и оставлен в покое. К тому же старая шерстяная нитка была колючей и грубой и постоянно тёрлась о саму себя, пока накручивалась. Да и сам клубок, кажется, лежал на асфальте, обтирая незащищённый бок о его неровную поверхность.
Но потом опять снились сны. Яркая зелёная нить неровными волнами проходила сквозь мониторы. Смотреть на её хаотичную пляску становилось невыносимо.
«Пожалуйста, уберите её!» – пронеслась истеричная мысль, многократно повторяясь, из самой сердцевины клубка в каждом слое ниток, пока не вырвалась наружу, теряя всякое сходство с первоначальным вариантом, вырываясь изо рта задыхающимся хрипом.
Светящаяся линия выпрямилась. Тело на операционном столе издало столь явный вздох облегчения, что фигуры в полиэтиленовых накидках вздрогнули и замерли на миг.
Дата неизвестна
Серовато-белый потолок, дающий мало материала для работы даже такого воображения, которое способно заставить человека прожить жизнь шерстяной нитки. Галлюцинации и не на такое способны, но какие там галлюцинации… бред от болевого синдрома.
Попыталась закрыть веки, глаза пересохли от неподвижности, начнёшь двигать и оболочка лопнет, как кожица перезревшей сливы. Медсестра не заходила, чтобы закапать их со вчерашнего вечера. Средство давало послевкусие, мало того что рот не использовался и микрофлора в нём тухла, так ещё соляно-алойное дополнение как-то пробивалось через носоглотку, чтобы довершить картину и добавить ей красок. Несвежесть чувствовалась ярче, но глаза всё равно было жальче. С точки зрения врачей, глаза, должно быть, не самая большая забота, но они – единственный функционирующий орган.
Ну же! Человек должен понимать не только «хочу», но ещё и «надо»! Потолок продолжал пялиться сверху. Недостаточно высоко. Давит. И краска на нём принялась желтеть. Нехорошо для больницы.
Эту палату называют палатой «смертников». Местным недолгим завсегдатаям потолок до лампочки. Смотреть тут не на что, но и головы у постояльцев не поворачиваются. И глаза есть не у всех. Палата невостребованных смертников. Вон тот, в углу, выпил этилового спирта. Глаза сразу отказали, а сам лежит, разлагается. Иногда постанывает через открытый рот на одну ноту. Плохо так думать, конечно, но уже достал акать. Уснуть тяжело, когда не колют, и вообще уши давит как от предельных децибел, хотя он на пределе уже не может. Никогда его не видела, в поле зрения не попадает, но врачи здесь не стесняются профессионального цинизма. Слушать некому. Местные не умеют пробалтываться.
Ещё попытка сомкнуть веки. Нет. Мышцы, как застопоренные шарниры – ни вверх, ни вниз.
Положено лежать по отдельным палатам. Больнице не хватает финансирования. Об этом здесь тоже говорят откровенно. Иногда высказывают подозрения в адрес главврача. Доказательств вроде как ни у кого нет. Вместо раздельных палат огороженные зеленоватенькими ширмами уголки в большой палате. Как марлевая маска вместо скафандра.
А что? Жалоб от больных не поступало.
Закрыть веки. За…крыть… за…крыть ве-ки. Не выходит. То есть, не сходятся. Больно. Живо представляется, что склеры растрескались, как земля в засуху. Только вместо земли творожистое белое… мясо? Из чего они, эти яблоки, которые не скушать?
Фу-у-уф, ещё раз… Вздохнуть толком невозможно. Из всей гаммы чувств – тухлый вкус во рту. Обезболивающее капает в вену, растекается по телу с медленными тяжёлыми мыслями. Мысли – единственное развлечение, единственный способ существования. Приходится заставлять себя думать о чём-то и с трудом избегать тем, навеянных красноречивыми знаками: стонами умирающего алкоголика, противным писком датчиков, нехорошим грязно-жёлтым светом ламп, подозрительной неподвижностью, разговорами циников-врачей. Мысли ждут возможности саботажа. Они отвратительны. Лежать неподвижно и думать о медленной смерти – безбожно и бесчеловечно. Заплакать было бы достижением, но не плачется. Наверное, воды не хватает. Сильное обезвоживание официальный симптом ожогов моей степени. Мне положено много пить. Точно знаю, какие-то капельницы мне вливаются нон-стоп, но, видимо, мало. Или дырочку расковыряли маленькую, жажда нарабатывается быстрее, чем насыщение.
Моргнуть. Хотя бы просто закрыть глаза и уже не смотреть никуда. Может начаться необратимое. Мыслить. Видеть. Если зрение пропадёт, уже нельзя будет знать, существуешь ли, жив ли ещё. Больше ничего не осталось.
– Не плачь,– требовательно велел голос,– всё поправится, всё будет хорошо. – Какая-то равнодушная уверенность, как будто голосу положено всегда и во всём быть уверенным. – Главное, что ты очнулась…
Это не мне. Мимо меня. Я официально в коме. У меня низкие показатели чего-то и высокие чего-то другого.
Счастливица и звезда нашей палаты известна под именем Дашенька. Неизвестно, подлинно ли имя. Мы с алкоголиком точно не опознаны. Алкаша предсказуемо зовут Алкашом или Хануриком. Никто не верит, что он выкарабкается, стараются думать в духе «туда и дорога». Меня зовут Искра с ударением на последний слог. Здесь следует воспринимать скорее как симпатию. Меня стереотипно жалко, поэтому обходят стороной, не приглядываясь без необходимости. Внешность моя едва ли симпатична, но я девчонка, как заявлено в карте – 16-20 лет. Вот меня и жалко. Не прошло и дня, чтобы кто-то не ляпнул, понизив голос до шуршащего шёпота – молодая совсем, ещё жить да жить!
Смерть – не самое страшное, что может случиться. Умри я, не приходя в сознание, не мучилась бы ожиданием смерти. Будем реалистами – мне уже не выздороветь. И какая это будет жизнь…
Ч-чёрт! Мерзкая мысль! Какая навязчивая, опять явилась! Стоит только сесть на этого конька и понесёт в заоблачные дали! Потустороннего мира, чтоб его! Об этом нельзя думать! Взять бы и заблокировать, как программу, или удалить…
Объект мелькнул на периферии. Фигура во всём белом и в зелёной маске самыми кончиками пальцев коснулась лба. Резиновое, неживое прикосновение. Пахнуло стерильными бинтами. На глаза упали капли, мешая обзору. Послевкусие не замедлило проступить, где его не требовалось – во рту. Моргнуть бы всё равно не мешало, но пока можно сделать передышку. Всегда что ли моргать было так тяжело? Здоровые визитёры вроде не перетруждаются.
Женщина в медицинском халате продолжила из сочувствия поглаживать неживой, чужой рукой лоб. Неприятно. Лучше бы перестала.
Что ж. Ей тоже надоело. Дашенька интересней. У неё более высокий уровень чего-то и более низкий того-то. Она хлопает глазами, может плакать и мычать. Мне мычать – недостижимо, но ко всему прочему ещё и обидно. Видимо, не замычу, из тупого упрямства.
– Пииииииип!
Что-то там у них шло не так.
– Нет, нет, нет, не уходим! – врач отдёрнула руку, неопознаваемое присутствие мелькнуло из вида. Где-то часто тревожно запикало, медсестра вернулась, всё ещё не во плоти, и края шапки не видно, мелькает что-то и всё, и понятно, что она. – А ну-ка…
Пришёл кто-то стремительный. Опять не видно, понятно, что пришёл и всё. Можно даже точнее определить. Мужчина. Реаниматолог. Даже в темноте… нет, я и так в темноте… даже увидев бы узнала – чувствуется его гель для душа. Дурацкие литровые бутыли с малопонятным названием «Мужская свежесть». В сочетании с водой убьёт любые микробы. Реаниматолог расходовал аккуратно. «Мужская свежесть» всё равно стремилась занять пост и освежителя воздуха, раз других запахов-претендентов не наблюдается.
Комаром заныл реанимационный аппарат. У-у-у-у… Не хватало ещё повторно подвергнуться реанимации. Глаза не видели, но сама грудь помнит, как её вминали, едва не ломая рёбра. Дашеньке, что ли, не повезло?
С новым пылом разакался алкоголик. Поднялась нездоровая суета.
– Разряд!
– Иииииии… а… иииии… а…
– Разряд!
– Иииииии…
– а…
Дата неизвестна
В крохотном помещении был высокий потолок. Стены стояли белые, словно глазурованные, по ним пестрела цветная объёмная роспись. Цветочные орнаменты синего, розового, красного и жёлтого. Ненавязчиво. На площади в шесть квадратов помещалась каталка и столик со стулом. Стол, стул да и каталка не попадались в область зрения, зато сухощавый дед попадал.
Он сидел на стуле, брал что-то со стола за головой пациентки одной рукой и подносил к её рту. Он ничего не говорил, вообще производил впечатление, что иностранец. Какой-нибудь монгол. Смуглый, скуластый, с чёрными волосами, сплетёнными в жидкую косицу. Глаза задраны внешним углом к бровям, но щёлками не назвать, и радужки не чёрные, а синие, как фарфоровая лазурь, оттого глаза вызывали ассоциации с кошками. Нитка губ была одного цвета с кожей, скулы сильно выпирали. Челюсть смыкалась плотно, как створки пещеры Али-Бабы, и, видимо, от прежних ударов и верхняя и нижняя кромки пошли трещинами. Он носил плотную черную водолазку с высоким горлышком, а поверх ни на что не похожий огроменный, раздутый, как парус, канареечно жёлтый жилет тонкой ткани. Остального девушка не видела.
Старик занимался своим делом с небрежностью большого профессионала, хотя что он делает, лежащая не представляла. Во рту у неё стояла воронка, неприятно давящая на гортань – и она не помнила, как она там очутилась. Дед орудовал одной рукой. Даже не рукой, а пальцем. И даже не пальцем, а непомерно длинным ногтем указательного. Зачерпывал им летучие порошки и направлял в воронку, прямо в рот. Оставляя в стороне антигигиеничность происходящего, девушка не была уверена, что порошки достигают цели.
Дед надменно продолжал, будто так и надо. В финале действа подхватил плошку разнообразия ради всей рукой и опорожнил на перебинтованную грудь какую-то тягучую жидкость. Её пациентка тоже не почувствовала. Дед взял следующую и поступил с ней так же. О чём-то поразмыслив, он поднялся, оправился и ушёл, не глянув на столик со своими примочками.
Голова девушки была тяжёлая, готовая провалиться в сон.
Посетители не нашли лучшего времени, чем в начале двенадцатого, чтобы явиться в комнату, похожую на супницу.
Больная спала в прежней позе. По виду тела чувствовалось, что поза некомфортна. Тело лежало на каталке, маленькое и скрюченное, будто огибало что-то.
Тёмная фигура выдвинулась вперёд, опережая остальных, заняла место у головы. Плавно зажглась лампа, дающая света как раз, чтобы выхватить шаром нижнюю половину супницы. Верх поглощали сумерки.
Мужчина был молод, немногим старше двадцати, но что-то заставляло считать его здесь старшим. У него было смуглое привлекательное лицо, не слащавое, строгое. В облике проступали сила, усталость и тщательно сдерживаемое раздражение. Другой брюнет, чьи блестящие глаза блуждали по чахлому телу в бинтах, не был красив. Грубые, рубленные черты его лица были пересечены через переносицу обрывающимся на щеке шрамом. Это была ни какая-нибудь белая едва различимая полоса, шрам был старый и глубокий, глядя на него легче представлялся топор, чем упругая молодая ветка, отведённая беззаботной рукой на узкой тропинке в лесу. Мужчина был старше первого лет на семь-восемь, он невесело улыбался, прикусив нижнюю губу, плотно обступленную чёрной щетиной. Последний из молодых людей был светловолосым. Он стоял чуть в стороне, и рассмотреть его не особенно удавалось. Он был высок, по крайней мере выше других. Отсюда лицо его казалось классическим, правильным – шутка, проделываемая со многими расстоянием, полумраком, близорукостью и определённой дозой спиртных напитков.