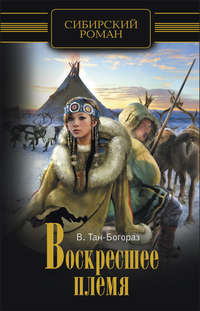Kitobni o'qish: «Воскресшее племя»
Вместо предисловия
Темой этого романа является возрождение после революции самого несчастного из северных племен, забитого, разоренного, полуистребленного народа юкагиров. В прошлом, до прихода русских, юкагиры, вместе с родственными им чуванцами и другими, более мелкими племенами занимали обширное пространство между двух океанов: Полярного и Тихого, от реки Лены до реки Анадыря. Они примыкали непосредственно к чукотско-коряцкой группе народностей, живших еще дальше и занимавших весь крайний северо-восточный треугольник обширного материка Евразии.
По древним сказаниям, шатры и огнища юкагиров были расположены так часто, что Ворон Громник, пролетавший над тундрою, совершенно почернел от дыма и копоти и должен был бессильно опуститься на землю, не пролетев даже и половины пути. Ныне от юкагиров осталось несколько сот человек, а чуванцы совершенно исчезли.
Чуванцы называли себя атал, а юкагиры – одул. Это, очевидно, одно и то же слово, оно означает – «человек». Многие первобытные народности сами себя называли «людьми» или «настоящими людьми», а соседей своих – «врагами», «мерзлоязыкими», «немыми» и даже еще прямее и грубее: «чертями».
Страдания и бедствия юкагиров не являются исключением, они типичны для всех малых народностей Севера.
Я писал об юкагирах по личным впечатлениям. Однако для того, чтобы быть более свободным в своем рассказе, я несколько переделал их племенное имя и вместо одулов и аталов назвал их «одулами» и «атанами». История одунов – это не только история юкагиров, это – история кетюв, долганов, эвенов и эвенков и десятка других северных народностей, над угнетением которых работали вместе казаки, исправники, торговцы и попы.
Русские завоеватели северной Сибири были во многом подобны испанским конкистадорам, покорившим Америку. То были люди, не щадившие ничьей жизни, ни чужой, ни своей. В какие-нибудь восемнадцать лет они покорили весь необъятный край от Лены до колымского устья и дальше, до Охотского моря. В 1632 году Петр Бекетов основал на реке Лене Якутский Острог. В 1646 году Михаил Стадухин открыл реку Колыму и заложил на ее западном устье Собачий Острог. В 1649 году Семен Дежнев заложил Анадырский Острог, а в 1650 году Семен Мотора уже дошел до Охотского моря. Казенные акты того времени, казачьи подлинные отписки якутским воеводам пестрят такими указаниями: «И мы, яз Семейка с товарищи, на них ходили и нашли иск четырнадцать юрт, в крепком острожке, и бог нам помог, тех людей разгромил всех и жен и детей у них поймали, а сами они ушли».
Или еще: «И стали они, анаули, с нами драться и как нам бог помог взять первую крайнюю юрту и на острожок взошли, и мы с ними бились на острожке ручным боем, друг за друга имаяся руками, и у них, анаулей, на острожке направлено на готовый бой колье, и топоры сажены на долгие деревья, и убили они у нас служилого человека Суханка Прокофьева да трех человек промышленных; да служилого человека Пашка Кокоулина на том приступе топором и кольем поранили в голову и в руку, да Артюшку Солдатка ранили из лука в лоб. И бог нам помог тот их острожек взять и смирить их ратным боем».
По другим донесениям, пленники, не желая покориться под высокую государеву руку, поганским обычаем, жен и детей своих кололи до смерти, а сами бросались с утеса и тоже убивались».
Вместе с казаками, а порою впереди их, шли торговцы, часто довольно крупные, тесно связанные со столичной Москвой.
Таковы, например: «Гостиной сотни торгового человека Василия Гусленикова, приказчиков его Бессонка Астафьева, Афоньки Андреева, их покрученник Ефимка Меркурьев Мезеня с товарищи». Здесь, правда, торговые люди третьего разбора, «по-крученники приказчиков» богатого купца. Но Федот Алексеев, обогнувший вместе со знаменитым Семеном Дежневым в 1648 году крайнюю оконечность азиатского материка и, таким образом, попавший из одного океана в другой, сам был богатый торговец и суда снарядил на собственные средства.
Верными союзниками казаков и торговцев были попы, белые и черные (то есть монахи). Они тоже ходили с отрядами и собирали силой ясак для царя.
Так, в 1814 году священник Григорий Слепцов сделал объезд по Чаунской тундре и собрал ясак с семидесяти чукотских семей. Он привез в Колыму восемьдесят семь пудов моржовой кости и множество мехов и все это передал в казну. По местному преданию, лучшую часть сбора он оставил себе. Чауйские чукчи нападали на него по дороге, но он отбился.
Последним завоеванным народом были злосчастные юкагиры. Чукчи, обитавшие за ними, сумели отбиться, нанесли казацким отрядам ряд поражений и заставили их отступить обратно к западу. После того чукчи набросились, в свою очередь, на чуванские и юкагирские поселки, грабили имущество, отбирали оленьи стада, мужчин убивали, а женщин и детей уводили в плен.
Таким образом, чувано-юкагары очутились между молотом и наковальней и жестоко пострадали.
В советскую эпоху разорение и угнетение северных народностей сменилось их культурнополитическим и хозяйственным возрождением. Значительную роль в этой прекрасной работе играла северная молодежь, и лучшая часть молодежи прошла и проходит через Институт народов Севера, возникший в Ленинграде в 1925 году.
Я работал в этом институте с его основания, когда он еще представлял только отделение рабфака при Ленинградском университете, и все время внимательно следил за его ростом и укреплением. Таких учреждений нет нигде за пределами СССР. Капиталистические страны поступают со своими народами Севера по одному и тому же неизменному империалистическому рецепту – выкачивают из них все соки, стараются их обезличить, стереть их народность, угасить язык и внушить этим пасынкам культуры рабское признание того, что они якобы являются людьми второго сорта, прислужниками завоевателей, пришедших с юга с «огненным боем», сифилисом и алкоголем.
Грандиозное значение советской работы средь малых народностей Севера признано за границей. Об этом говорилось на многих ученых конгрессах в Европе и в Америке.
Последние главы моей повести еще не исполнились, но они исполнятся в ближайшем будущем. То, что еще не осуществилось в далеком юкагирском районе, стало уже действительностью, вошло в плоть и кровь в более западных ненецких и эвенкийских округах. Темп возрождения Севера быстро растет. Злое «вчера» уже переросло в могучее «сегодня», и это «сегодня» на наших глазах переходит в яркое «завтра».
«Завтра» для одунов – это широкий, развернутый фронт по пути индустриализации, научного знания, социализма.
Глава первая
– Подь, подь!.. Подь, подь!..
Кендык покрикивал, погоняя свою старую мохнатую собаку, покрикивал негромко, без всякого азарта. Не стоит разоряться из-за единственной собаки.
Старая Щетка, тянувшая изо всех сил, с упреком оглянулась на хозяина.
«Ты видишь, я стараюсь, – прочитал Кендык в ее взгляде, – куда же ты гонишь еще?..»
И вместо ответа Кендык влег плечом в ременную лямку, при помощи которой он тянул свою узкую нарту по снежным ухабам.
На нарте лежало спасение северной жизни – еда, правда, не особенно казистая, разного качества. Десяток зайцев, полтора десятка куропаток, несколько довольно крупных рыб и даже кусок волчеедины, на которую Кендык и Щетка набрели нечаянно в лесу, во время своего путешествия. Волк убежал, а волчеедина осталась.
Эта еда должна была поддержать на неделю десятую часть несчастного, заброшенного, полуумирающего племени одунов.
Зайца одуны когда-то не ели. Даже самый их род назывался Заячьим родом – Чолгород Омок. Одуны считали Великого Зайца своим покровителем и предком, дарителем пищи и про зайца рассказывали множество басен и легенд. Но теперь все это забылось и спуталось. Погибающим одунам было совсем не до этих запретов. И если не Великие Зайцы, то простые лесные зайчишки давали племени необходимую пищу своей собственной плотью и кровью.
От одунов осталась последняя сборная сотня: сорок мужчин, сорок семь женщин и одиннадцать детей. У племени – двадцать собак, большею частью старых и усталых, а молоденьких щенят – тоже одиннадцать; по щенку на ребенка. Детей и щенят кормили из одного корыта, когда было чем кормить.
Настоящих охотников у племени было тоже одиннадцать, и они разделили сородичей на одиннадцать родственных групп, или сложных семей, по восемь, по девять и по десять человек, и каждый охотник старался кормить свою собственую группу. Настоящих, взрослых охотников было только десять, а одиннадцатым был этот самый мальчишка – Кендык, который из сил выбивался с грузом добычи на снежной таежной дороге. Кендык был внук шамана Чобтагира. Он был по годам мальчишка – ему исполнилось только четырнадцать лет, – но по упрямой, настойчивой страсти к охоте он был промышленником, одним из одиннадцати.
– Кух, кух, кух! – закаркал по-вороньему, с удивительным искусством, охотник-подросток, подавая этим своей единственной собаке знак, что сворачивать нужно налево, туда, где змеился узкой тропинкой крутой и высокий подъем.
Щетка выпустила дух, как будто вздохнула, и начала царапаться вверх по подъему своими цепкими лапами. Работа эта была тяжелая. Собака стлалась по тропинке, визжа, хватая пастью снег, чтобы утолить свою нестерпимую жажду, и Кендык, как полагается каюру-ямщику, на трудных местах плаксивым голоском поощрял свою старую собаку: «Ох, тяни, тяни, ох, давай, давай! Еще раз, еще раз. Домой, ужинать будем». В семье Кендыка Щетка была последняя живая собака. Две других издохли, третью задрал не особенно давно на охоте медведь, четвертую убили и съели на празднике осенью, и осталась одна-единственная, и при ней также единственный щеночек.
Стемнело. Товарищи всползли наконец на угор и поехали вдоль по узкому высокому гребню. На третьем повороте открылся одунский поселок. Постройки поселка тоже были сборные, пестрого типа. Старые плетеные одунские шалаши, обложенные глиной и дерном, якутские разлапистые юрты, обмазанные глиной и навозом, и даже квадратные избы, рубленные в лапу, по русскому примеру. Но ни одна изба не имела сеней перед входом и кровли на два оката. В сущности, это были не дома, а скорее сараи, переделанные для жилья. Все они имели в левом углу, у стены, русско-якутского семейственного бога. То был широкий «чувал», тоже из дерева и глины, построенный вроде камина и дававший лучистое тепло в самые лютые морозы. Домов было двадцать, и повсюду топились обильным и щедрым огнем чувалы. В лесу было тихо, и над каждою плоскою крышей вставал неподвижно развихренный, высокий, пронизанный искрами столб вроде гигантской метелки, с курчавой и дымной верхушкой.
Кендык облегченно вздохнул. Еды было мало, но ее заменяло изобильное тепло и ленивый, разымчивый сон. Одуны знали и блюли мировую пословицу: «голодному сон за обед».
Жидко завизжали впереди голодные собаки, и все население поселка высыпало наружу из-под шкур, повешенных вместо дверей. Среди этих немногих десятков последних одунов поражало обилие людей пожилых и даже стариков. Дети постоянно вымирали, а старики и старухи, составлявшие бремя тяжелое, почти бесполезное, продолжали жить по какому-то необъяснимому противоречию. Впрочем, детей рождалось мало. Брачная жизнь ослабела. Воля к воспроизведению, теплившаяся слабой искрой, зимой совсем замирала, а вспыхивала только весной временным и жидким огоньком. Последним жизненным инстинктом был голод, стремление насытить свое собственное брюхо и защитить от смерти свою собственную личную жизнь, без мысли о детях, о племени. Но чаще всего даже влечение к еде не вспыхивало ярким звериным огнем.
Мужчины и женщины, с изношенными лицами, в изношенных одеждах из полуоблысевших шкур, постояли перед входом и тотчас убрались обратно. Еда предназначалась для третьего дома налево. Ее было немного, и устраивать общий дележ было не из чего.
Старый Чобтагир вышел навстречу охотнику.
Он был высокий, тощий, но все еще держался прямо, несмотря на глубокую старость. Его щеки и шея были в широких складках, как будто копченая коричневая замша. По замше повсюду, особенно на подбородке, пробивались длинные волосы, жесткие, прямые и седые. Одуны вообще бороды не имеют и отдельные волоски выщипывают особенными медными щипчиками, которые носят на трубке. Но у самых глубоких стариков вырастает бородка, она считается особым украшением, и ее не выщипывают.
У Чобтагира на поясе висело соколиное крыло, а на левом плече была пришита деревянная фигурка – собака или волк. То были его духи-покровители.
Не поздоровавшись с внуком, он подошел к нарте и ощупал волчеедину и зайцев. Добыча молодого охотника ему не особенно понравилась.
– Для еды годится, для продажи не годится, – оказал он презрительно.
Действительно, Кендык не добыл ни одной ценной шкурки – ни белки, ни лисицы, ни соболя, ни горностая. Если б приехали купцы, им нечего было бы дать в обмен на чужие товары.
Подошел и другой старик, похожий лицом на Чобтагира, но ростом пониже и без всяких амулетов.
– Кому продавать-то? – сказал он презрительно и горько. – Перевелись торговцы, сами не ездят, других не пускают. Если бы попалась пушнинка, отдать-то некому, купить-то нечего.
Слова эти были как бы ответом на упреки Чобтагира.
Старик без амулетов был двоюродным братом Чобтагира.
У Чобтагира имя было чужое – тунгусское, но брат его звался по-одунски Шоромох – «человек». Этот туземный человек был в прошлом помощником якутских торговцев. Он брал у них по мелочи товар, раздавал односельчанам, сородичам и также по мелочи собирал пушнину. Каждая иголка и каждый листок табаку имели свою цену. Когда-то, при дедах Шоромоха, за иголку давали пышную темную белку, но после – только беличий черненький хвостик. Из беличьих хвостов искусные старухи-шитницы сшивали ошейники, пушистые и черные, теплее, чем русские шарфы, вязанные из шерсти.
Шоромох, бывало, работал не только средь Заячьих потомков, но шнырял по окрестностям, переходя от одного полувымершего рода к другому. Бывал у Гусиного рода, у второго полурода Щербаковых.
Первый полурод давно вымер, поголовно подкошенный корью. В Петербурге и в Москве, для притерпевшихся горожан, корь – это детская болезнь, но, раз попав на тундру, она становится злым бичом вроде чумы или оспы.
От торговых операций Шоромох особенно не богател. Ему перепадал лишний чаек, табачок, даже порой спиртик, но чаек он выпивал, табачок выкуривал, а спиртик… даже и сейчас при мысли о спиртике глаза его зажигались мечтательным восторгом, и он прошептал русскую пословицу в одунской переделке: «Сыт и пьян, и глотка копченая (от табачного дыма), и глаза подбитые». Последняя деталь относилась к дракам, которые у пьяных одунов затевались не хуже, чем у пьяных русских. Но теперь не было, увы, ни пьянства, ни курения, и якутские благодетели давно уж не являлись в глухую одунскую тайгу.
Старая Курынь, жена шамана Чобтагира, настрогала мороженой рыбы и поставила на стол. Зайцев, гремевших, как жестяные, положила оттаивать в широкую корзину вблизи камина. Над волчеединой постояла в сомнении. Можно ли есть, не обидится ли тот волк, у которого ее отняли, и не станет ли мстить? Но потом она отрубила половину маленьким кухонным топориком, разрубила на куски, положила в котел и поставила вариться к огню. Мужчины в молчании ели сырую мороженую рыбу. Она была безвкусная, сухая, без всякого жира. Зимняя рыба мало годится для поедания сырьем. Котел закипал, волчеедина, в отличие от рыбы, была жирная. «Волки умеют выбирать добычу», – подумала Курынь с невольным почтением.
Кендыкова сестренка Чолгора (Зайчиха) затеяла игру с морожеными зайцами. Может быть, она чувствовала к ним влечение из-за своего собственного имени. Вместе с нею играли две другие девчонки, подруги, пришедшие из соседних домов. Сегодня в поселке был день худого промысла, и взрослые охотники принесли меньше добычи, чем молоденький Кендык. Однако Чобтагир и Шоромох не делили еду по сородичам, как водилось по правилу раньше, а ели одиноко в своей угрюмой жадности то, что послал им охотничий бог – покровитель молодого охотника. Только маленькие дети разрушали стену отчуждения и ходили выпрашивать кусок туда, где он был побольше и пожирнее. Оттого и пришли в чобтагирскую избу к «маленькой зайчихе» две другие девочки. Они отобрали самого крупного зайца, разделились на две партии и стали играть в «ворона». Две девочки легли на зайца грудью и обхватили его руками. Они были мыши, нашедшие заячью тушу в лесу под кустами, и прятали свою драгоценную добычу. Чолгора – хозяйка – разыгрывала Ворона. «Дочки, дочки, что вы делаете?» – спрашивал Ворон. «На солнце греемся, на песке сушимся». – «А что вы нашли на песке? Зайчика, должно быть?» – Нет, нет, это не зайчик, а кустик». – «А зачем у него глазки?» – «Это кустик глазастый». – «А зачем у него усики?» – «Ах, это кустик усатый». – «А зачем у него лапки?» – «Это кустик лапчатый». – «Ах вы, певуньи, вертуньи, вот я вас, вот я вас!»
Ворон мышей разбросал и зайчика унес, но старая Курынь вырвала зайца у Ворона и самого Ворона ударила звонко по лбу черной деревянной поварешкой.
– С зайчиками не шутите, – сказала Моталья, другая сестренка Кендыка. – Зайцы не сами собой пришли, они родились из оленей на бегу, в состязании. Бежали, бежали, бока и рога потеряли. Уши стали больше, лапки стали мягче, рост уменьшился, стали меньше лисиц, тогда стали кормиться тальничными ветками.
Это было предание вымирающего племени. Его прародители, зайцы, были когда-то оленями, а племя потом потеряло оленей, убавилось ростом и стало вместо мяса питаться тальничными ветками, не лучше и самих зайцев.
Горячее мясо стояло в корыте на низком столе. Девчонки хватали куски, позабывши о зайчике. Но старый Чобтагир ел мало.
– Пить хочу, – сказал он отрывисто.
Старуха наливала из черного чайника горячий брусничник, то есть, в сущности, просто крутой кипяток, в котором заварены брусничные листья. Но сколько ни клади брусничного листа, навар выходит какой-то сомнительный, прозрачный и зеленый. А от кирпичного чая, какой пили недавно одуны, навар получался черный и густой, как пиво.
Чобтагир равнодушно выпил чашку, поставил ее на стол и с тяжелым вздохом достал свою длинную черную трубку. Курить было нечего. Кисеты давно искрошили и выкурили. Старые трубки истерли в порошок. Все давным-давно перешло в дым. Он неохотно взял ивовую ветку, очистил от коры, наскреб древесины, набил ее в трубку и поджег угольком. Потом затянулся быстро и жадно, пять, десять раз подряд, как это делают курильщики на Севере. Дым был удушливый, едкий. Чобтагир поперхнулся и закашлялся, потом с отвращением бросил в сторону трубку. Ничто его не тешило. В неприступном молчании ушел он в свой кожаный полог, растянулся на шкурах и принял вид спящего. Другие расправились с едой, старуха загребла огонь, чтобы он сохранился до завтра, и все стали укладываться прямо на полу, расстилая поношенные шкуры. Усталый охотник давно утопал в меховом балахоне Нерги, пушистой и снежной полночи, которая приносит такой пушистый сон и людям, и вещам. Кого Нерга захочет усыпить, – закинет полою плаща, и тогда он спит спокойно и мягко, как ребенок.
В глубокую полночь Чобтагир тихонько поднялся. Он не спал ни минуты и молча пролежал, глядя в темноту своих закрытых глаз, своей замкнутой наглухо души. Но теперь он насытился своим одиночеством, его тянуло разговаривать с духами. Он не стал по-обычному шаманить в жилом помещении, а вышел осторожно на улицу. Взял с собой свой старый любимый бубен, большой, неуклюжий, с железной крестовиной на брюхе, заменявшей рукоять. Заодно прихватил три головатых деревянных фигурки, – то были его собственные амулеты и духи-покровители. Унес и малую икону Старого Николки – так фамильярно обзывают на Севере Николая-чудотворца. Обойдя свою избу, он стал у задней стены. Потом разложил на снегу вокруг иконы своих деревянных предков и крепко связал их вместе шнурком, ссученным из оленьих сухожилий, – чтобы они не разбежались. Духи – как дикие звери. Если не привязать их, они убегают. Старик достал из мешочка кусочек красной охры и развел ее слюной. Это была как бы жертвенная кровь убитого оленя, о котором в доме Чобтагира не было даже и помина. Разведенной охрой он обильно намазал деревянные губы своим собственным духам-помощникам и Старому Николке.
– Ешьте, – буркнул он, – ешьте хорошенько и нам тоже есть давайте.
После того он стал жаловаться на плохую торговлю и плохие промыслы.
– Слушай, Николка, – говорил он вразумительно и прямо. – Дай чаю, пить хочу, дай табаку, курить хочу. Дай крепкого вина, сердце веселить хочу. Я вас кормил – и вы меня кормите. И вы, головатые, – окликнул он своих деревянных божков, – тоже помогайте Николке и дайте, чего просим.
Чобтагир помолчал и прислушался. Сквозь сердце его прошла, как нож, буйная жажда пляски, шаманского вопля и яростного стука по натянутой коже бубна. Он удержался. Эту шаманскую молитву не должны были слышать другие мужчины жилья: Кендык и Шоромох.
– Дайте, – убеждал духов Чобтагир, – я стар и немощен. Мои губы привыкли к радостям, пришедшим от русских. Пьют вино, курят табак, пьют чай с сахаром.
Он опять подождал и прислушался, но ничего не услышал. Духи не давали ничего.
Тогда в безумной ярости он стал бранить и поносить главного русско-одунского бога – Николу-чудотворца.
– Злой старичишка, – сказал он ему. – Сам, небось, куришь и пьешь, или, может быть, ты только хвастаешься, и к вам на небеса тоже ничего не доходит. Страшные солдаты и у вас облегли все дороги, не пропускают никакой мучнистой пушинки, ни чайной порошинки, ни горечи табачной.
Наступило короткое молчание.
– Ты, может, спишь, Николка, – сказал неожиданно шаман. – Не спи, друг, помоги. Случай придет, я тебя тоже накормлю и накурю.
Николка действительно спал. Чуть слышно долетало из избы тонкое храпение с присвистом и причмокиванием. Трудно было решить, кто это собственно храпит: старый Шоромох или Старый Николка.
С тяжелым вздохом шаман продолжал свое действие.
– Ты, может, не понимаешь по-нашему? – спросил он Николу. – Русский, что делать, – ты понимаешь по-русски, а мы – только по-одунски. Вот я позову переводчика… Приди, толмач, – прошептал он настойчиво. – Работай со мною, как Кешка-переводчик1 работал со старым исправником.
«Хорошо, хорошо, хорошо, – запело в ушах шамана. Это пел дух-переводчик тонким комариным голоском. – Мне все равно, я растолкую, скажу…»
Как все шаманы, Чобтагир разыгрывал свое «служение», как настоящий многоликий актер. Он сам говорил за себя и также за духов, порой мысленно, порой на все голоса, громко, вслух. При случае он умел даже чревовещать не хуже любого городского фокусника. Это требовало большого напряжения, и он делал это исключительно для публики. Сам для себя он разговаривал с духами чаще всего мысленно.
Еще через несколько минут у шамана в ушах прозвучало объяснение: «Даром Николка не дает, и остроголовые тоже не дают. Торгуй с ними, ты ведь даром ничего не давал, и Шоромох ничего не давал, а у нас, небось, просите. Привык собирать дорогое, – упрекал переводчик шамана. – С нами поделись, с небесными, мы не хуже земных. Пушнину-то привык собирать, пушнину отдай… Нет, не надо пушнины, ее ныне не берут. Дай молодого оленя, сладкое мясо, теплую кровь».
Чобтагир тихонько завыл и закружился на месте, уже не только мысленно, но и на деле. Он вертелся быстро, как волчок, спущенный с рогатки на твердую гладкую землю.
Никола хотел торговать, но у Чобтагира не было товара для продажи. Заячий род был не олений, а собачий. Только у второго полурода Щербаковых водились когда-то олени, но их давно приели и волки, и люди, и духи копытной заразы. Последний Щербаков умер много лет назад, когда у Чобтагира на темном лице волосы были не седые, а черные. Последние олени потерялись незадолго до смерти последнего оленного одуна. Все было последнее: и олени, и люди, и пища, и русские товары, и самое дыхание жизни.