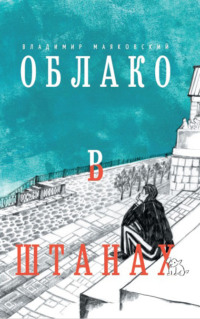Kitobni o'qish: «Облако в штанах»
Shrift:
© Издательство «Яуза», 2020
© ООО «Яуза-каталог», 2020
* * *

Ко всему

Нет.
Это неправда.
Нет!
И ты?
Любимая,
за что,
за что же?!
Хорошо –
я ходил,
я дарил цветы,
я ж из ящика не выкрал серебряных ложек!
Белый,
сшатался с пятого этажа.
Ветер щеки ожег.
Улица клубилась, визжа и ржа.
Похотливо взлазил рожок на рожок.
Вознес над суетой столичной одури
строгое –
древних икон –
чело.
На теле твоем – как на смертном одре –
сердце
дни
кончило.
В грубом убийстве не пачкала рук ты.
Ты
уронила только:
«В мягкой постели
он,
фрукты,
вино на ладони ночного столика».
Любовь!
Только в моем
воспаленном
мозгу была ты!
Глупой комедии остановите ход!
Смотрите –
срываю игрушки-латы
я,
величайший Дон-Кихот!
Помните:
под ношей креста
Христос
секунду
усталый стал.
Толпа орала:
«Марала!
Мааарррааала!»
Правильно!
Каждого,
кто
об отдыхе взмолится,
оплюй в его весеннем дне!
Армии подвижников, обреченным добровольцам
от человека пощады нет!
Довольно!
Теперь –
клянусь моей языческой силою! –
дайте
любую
красивую,
юную, –
души не растрачу,
изнасилую
и в сердце насмешку плюну ей!
Око за око
Севы мести в тысячу крат жни!
В каждое ухо ввой:
вся земля –
каторжник
с наполовину выбритой солнцем головой
Око за око
Убьете,
похороните –
выроюсь!
Об камень обточатся зубов ножи еще!
Собакой забьюсь под нары казарм
Буду,
бешеный,
вгрызаться в ножища,
пахнущие потом и базаром.
Ночью вскочите!
Я
звал!
Белым быком возрос над землей:
Муууу!
В ярмо замучена шея-язва,
над язвой смерчи мух.
Лосем обернусь,
в провода
впутаю голову ветвистую
с налитыми кровью глазами.
Да!
Затравленным зверем над миром выстою.
Не уйти человеку!
Молитва у рта, –
лег на плиты просящ и грязен он.
Я возьму
намалюю
на царские врата
на божьем лике Разина.
Солнце! Лучей не кинь!
Сохните, реки, жажду утолить не дав ему, –
чтоб тысячами рождались мои ученики
трубить с площадей анафему!
И когда,
наконец,
на веков верхи став,
последний выйдет день им, –
в черных душах убийц и анархистов
зажгись кровавым видением!
Светает.
Все шире разверзается неба рот.
Ночь
пьет за глотком глоток он.
От окон зарево.
От окон жар течет.
От окон густое солнце льется на спящий город.

Святая месть моя!
Опять
над уличной пылью
ступенями строк ввысь поведи!
До края полное сердца
вылью
в исповеди!
Грядущие люди!
Кто вы?
Вот – я,
весь
боль и ушиб.
Вам завещаю я сад фруктовый
моей великой души.
1916


Я
I. «По мостовой…»

По мостовой
моей души изъезженной
шаги помешанных
вьют жестких фраз пяты.
Где города
повешены
и в петле облака
застыли
башен
кривые выи –
иду
один рыдать,
что перекрестком
распяты
городовые.
1913
II. Несколько слов о моей жене

Морей неведомых далеким пляжем
идет луна –
жена моя.
Моя любовница рыжеволосая.
За экипажем
крикливо тянется толпа созвездий пестрополосая.
Венчается автомобильным гаражем,
целуется газетными киосками,
а шлейфа млечный путь моргающим пажем
украшен мишурными блестками.
А я?
Несло же, палимому, бровей коромысло
из глаз колодцев студеные ведра.

В шелках озерных ты висла,
янтарной скрипкой пели бедра?
В края, где злоба крыш,
не кинешь блесткой песни.
В бульварах я тону, тоской песков овеян:
ведь это ж дочь твоя –
моя песня
в чулке ажурном
у кофеен!
1913

III. Несколько слов о моей маме

У меня есть мама на васильковых обоях.
А я гуляю в пестрых павах,
вихрастые ромашки, шагом меряя, мучу.
Заиграет вечер на гобоях ржавых,
подхожу к окошку,
веря,
что увижу опять
севшую
на дом
тучу.
А у мамы больной
пробегают народа шорохи
от кровати до угла пустого.
Мама знает –
это мысли сумасшедшей ворохи
вылезают из-за крыш завода Шустова.

И когда мой лоб, венчанный шляпой фетровой,
окровавит гаснущая рама,
я скажу,
раздвинув басом ветра вой:
«Мама.
Если станет жалко мне
вазы вашей муки,
сбитой каблуками облачного танца, –
кто же изласкает золотые руки,
вывеской заломленные у витрин Аванцо?..»
1913

IV. Несколько слов обо мне самом
Я люблю смотреть, как умирают дети.
Вы прибоя смеха мглистый вал заметили
за тоски хоботом?
А я –
в читальне улиц –
так часто перелистывал гроба том.
Полночь
промокшими пальцами щупала
меня
и забитый забор,
и с каплями ливня на лысине купола
скакал сумасшедший собор.
Я вижу, Христос из иконы бежал,
хитона оветренный край
целовала, плача, слякоть.
Кричу кирпичу,
слов исступленных вонзаю кинжал
в неба распухшего мякоть:
«Солнце!
Отец мой!
Сжалься хоть ты и не мучай!
Это тобою пролитая кровь моя льется дорогою дольней.
Это душа моя
клочьями порванной тучи
в выжженном небе
на ржавом кресте колокольни!
Время!
Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалюй мой
в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!»
1913


Нате!
Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я – бесценных слов мот и транжир.
Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.
Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озвереет, будет тереться,
ощетинит ножки стоглавая вошь.
А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется – и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я – бесценных слов транжир и мот.
1913
Шумики, шумы и шумищи
По эхам городов проносят шумы
на шепоте подошв и на громах колес,
а люди и лошади – это только грумы,
следящие линии убегающих кос.
Проносят девоньки крохотные шумики.
Ящики гула пронесет грузовоз.
Рысак прошуршит в сетчатой тунике.
Трамвай расплещет перекаты гроз.
Все на площадь сквозь туннели пассажей
плывут каналами перекрещенных дум,
где мордой перекошенный, размалеванный сажей
на царство базаров коронован шум.
1913
А вы могли бы?
Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочёл я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
1913
Послушайте!

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают –
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – кто-то хочет, чтобы они были?
Значит – кто-то называет эти плевочки жемчужиной?

И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается к Богу
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит –
чтоб обязательно была звезда! –
клянется –
не перенесет эту беззвездную муку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают –
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!
1914

Адище города

Адище города окна разбили
на крохотные, сосущие светами адки.
Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,
над самым ухом взрывая гудки.
А там, под вывеской, где сельди из Керчи –
сбитый старикашка шарил очки
и заплакал, когда в вечереющем смерче
трамвай с разбега взметнул зрачки.
В дырах небоскребов, где горела руда
и железо поездов громоздило лаз –
крикнул аэроплан и упал туда,
где у раненого солнца вытекал глаз.
И тогда уже – скомкав фонарей одеяла –
ночь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна.
1913

Скрипка и немножко нервно

Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, Хорошо, Хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»

«Как это?»
А когда геликон –
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» –
я встал,
шатаясь полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:
«Боже!»,
Бросился на деревянную шею:
«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору –
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!»
А мне – наплевать!
Я – хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте –
будем жить вместе!
А?»
1914

Облако в штанах
Тетраптих

Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут;
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.
У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огромив мощью голоса,
иду – красивый,
двадцатидвухлетний.
Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!
Приходите учиться –
из гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.
И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.
Хотите –
буду от мяса бешеный
– и, как небо, меняя тона –
хотите –
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а – облако в штанах!
Не верю, что есть цветочная Ницца
Мною опять славословятся
мужчины, залежанные, как больница,
и женщины, истрепанные, как пословица.

1

Вы думаете, это бредит малярия?
Это было,
было в Одессе.
«Приду в четыре», – сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять.
Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрый.
В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.
Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!
Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце – холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.
И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая –

большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любёночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.
Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицом в его лицо рябое,
жду,
обрызганный громом городского прибоя.
Полночь, с ножом мечась,
догна́ла,
зарезала, –
вон его!
Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.
В стеклах дождинки серые
свылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
Собора Парижской Богоматери.
Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.
Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот, –
сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,
четкий.
Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.
Рухнула штукатурка в нижнем этаже.
Нервы –
большие,
маленькие,
многие! –
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!
А ночь по комнате тинится и тинится, –
из тины не вытянуться отяжелевшему глазу
Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб на зуб.
Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала:
«Знаете –
я выхожу замуж».
Что ж, выходи́те.
Ничего.
Покреплюсь.
Видите – спокоен как!
Как пульс
покойника.
Помните? Вы говорили:
«Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть», –
а я одно видел:
вы – Джоконда,
которую надо украсть!
И украли.
Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей загиб.
Что же!
И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!
Дразните?
«Меньше, чем у нищего копеек,
у вас изумрудов безумий».
Помните!
Погибла Помпея,
когда раздразнили Везувий!
Эй!
Господа!
Любители
святотатств,
преступлений,
боен, –
а самое страшное
видели –
лицо мое,
когда
я
абсолютно спокоен?
И чувствую –
«я»
для меня мало.
Кто-то из меня вырывается упрямо.
Allo!
Кто говорит?
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле, –
ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.

Люди нюхают –
запахло жареным!
Нагнали каких-то.
Блестящие!
В касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горящее лезут в ласках.
Я сам.
Глаза наслезнённые бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!

На лице обгорающем
из трещины губ
обугленный поцелуишко броситься вырос.
Мама!
Петь не могу.
У церковки сердца занимается клирос!
Обгорелые фигурки слов и чисел
из черепа,
как дети из горящего здания.
Так с трах
схватиться за небо
высил
горящие руки «Лузитании».
Трясущимся людям
в квартирное тихо
стоглазое зарево рвется с пристани.
Крик последний, –
ты хоть
о том, что горю, в столетия выстони!

Bepul matn qismi tugad.
Janrlar va teglar
Yosh cheklamasi:
0+Litresda chiqarilgan sana:
19 dekabr 2021Yozilgan sana:
1930Hajm:
93 Sahifa 72 illyustratsiayalarISBN:
978-5-00155-287-1Rassom:
Noshir:
Mualliflik huquqi egasi:
Яуза