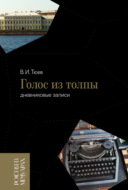Kitobni o'qish: «Воспоминания петербургского старожила. Том 2»
Воспоминания петербургского старожила
Кое-что из моих «Воспоминаний» о прославившемся дуэлью с Пушкиным бароне Дантесе-Гекерне
На этих днях на этих же самых столбцах (№ 268, 269) напечатана была моя же ретроспективная статья «Улан Клерон», в которой я сочувственно вспоминал о фазисах честной жизни и честной службы новому своему отечеству, России, иностранца, достойного доброй о нем памяти русских людей; теперь же здесь, по поводу заметки редакции «Русского архива» (№ 9, на стр. 1829–1830), сделанной к одному эпизоду напечатанной там моей статьи «М. Ю. Лермонтов в рассказах его гвардейских однокашников»1, я посвящаю мои воспоминания, напротив, такому иноземцу, деятельность которого отразилась пошлостью для него самого и безуспешной скорбью для всей России – смертью, насильственною смертью нашего великого поэта Пушкина.
Передаю здесь теперь – без всяких, впрочем, с моей стороны комментариев – все то, что я лично знаю и помню об этом monsieur Дантесе, имя которого навсегда бы, конечно, без этой роковой дуэли осталось в том мраке неизвестности, которого оно вполне достойно.
Первый раз в жизни узнал я о monsieur Дантесе в конце 1832 года2, именно – в доме почтенного генерала А. И. Хатова (переводчика истории войны 1812 года, сочиненной на французском языке Д. П. Бутурлиным), от молодого (в то время) поручика гвардейской конной артиллерии Павла Семеновича Мухина (умер, кажется, в пятидесятых годах, будучи полковником и командиром одной гвардейской конной батареи). Это был очень умный, очень образованный молодой человек и преприятный рассказчик. В числе гостей генерала Хатова в то воскресенье, помнится, были: граф А. Л. Гейден, офицер лейб-гвардии Волынского полка3 (ныне, кажется, здравствующий, но давно находящийся в отставке по болезни) и еще граф Сиверс, очень молоденький семеновский офицер4, адъютант тогдашнего начальника штаба гвардии П. Ф. Веймарна5, т. е. чрез то сослуживец сына хозяина дома, молодого лейб-гвардии Гренадерского полка подпоручика Сергея Александровича Хатова.
После обеда в особой далекой отдельной комнате квартиры, которую занимал генерал в доме Главного штаба, над библиотекой Генерального штаба, эти молодые офицеры и я, их одногодок, курили обыкновенно наши пахитосы и трабукосы6, так как здесь, да и повсеместно в семейных домах, даже табачный запах, не только дым, считался в те времена lèse bonne sociètè7. Вот тут-то П. С. Мухин рассказал нам, что он вчера был на soirée dansante8 известного в ту пору богача, ведшего сильную картежную игру, Василия Васильевича Энгельгардта, дом которого у Казанского моста (ныне дочери его, вдовы г-жи Ольхиной) почти весь был тогда нанимаем под дворянское собрание, как ныне большая его часть нанимаема под купеческое собрание. Вечер Энгельгардта был изящный, как всегда бывали вечера этого блистательного и тароватого амфитриона. На этот раз вечер давался по случаю перехода сына В. В. Энгельгардта, юнкера лейб-гвардии Уланского полка, в лейб-гвардии Гусарский полк, почему здесь преобладал элемент военной молодежи, состоявшей преимущественно из юнкеров кавалерийского отдела гвардейской школы; фраков было очень мало, и в числе их два, только что прибывшие из-за границы, премолоденькие французики, а именно: маркиз де Пина (de Pinas) и какой-то Дантес, носящий фамилию, не находящуюся во французском блазоне (гербовнике), по-видимому, из французских буржуа9. Оба эти французика, как говорил Мухин и подтверждали графы Сиверс и Гейден, были камер-пажами герцогини Беррийской, рекомендовавшей их письменно, в особенности Дантеса, как сына ее преданнейшей камерфрау10, императору Николаю Павловичу для принятия их в русскую военную службу. Маркиз Пина принят был прапорщиком в молодую гвардию, именно в австрийский полк11. Это был довольно скромный и приличный молодой человек, умевший себя держать с достоинством, без малейшего фатовства. Он довольствовался своими собственными небольшими средствами, отказывался от всякой милостыни, в виде царской субсидии, старался как можно скорее изучить русский язык и русскую грамоту и спустя несколько времени перешел на службу на Кавказ, где, как впоследствии уже говорили в Петербурге, участвовал молодецки в нескольких отчаянных экспедициях и в одной из них нашел честную смерть. Он принадлежал к старинной французской фамилии и был роялистом до мозга костей, почему считал службу а l’autocrate de toutes les Russies12 продолжением своей службы под знаменами легитимизма. С товарищем своим, Дантесом, даже на вечере у Энгельгардта, как заметил тогда Мухин, он, этот маркиз, держал себя холодно и сухо и конфузился, когда тот, со своими залихватскими манерами дурного тона, отмачивал некоторые остроты, напоминавшие все, кроме хорошего общества. К тому же все бывшие на этом энгельгардтовском вечере не могли не заметить, что бывший камер-паж герцогини Беррийской отличался необыкновенной неловкостью и неуклюжестью в танцах. П. С. Мухин уверял тогда нас, что этот Дантес, парень лет двадцати, белобрысый, розовый, немножко сутуловатый с широчайшею спиной и слишком плотный для своих лет.
Спустя несколько дней после этого разговора я в «Русском инвалиде» прочел в приказах о том, что бывший камер-паж двора ее королевского высочества герцогини Беррийской Дантес принимается корнетом в Кавалергардский ее императорского величества полк. Вскоре после этого, ужиная вместе с несколькими знакомыми мне молодыми людьми в дворянском собрании, во время какого-то масленичного маскарада, я уже видел этого самого Дантеса с несколькими кавалергардами, между которыми рельефнее всего проявлялся известный тогдашний самодур «Савка» Яковлев, сын знаменитого богача, Алексея Ивановича Яковлева, соперничавшего с Демидовыми своими железными заводами в Сибири13. Вся эта шумная компания ужинала за отдельным далеким столом в обществе нескольких французских второстепенных актрис и танцовщиц, снявших маски и хохотавших до упада, особенно тем очень не салонным остротам, какие сыпал крайне белокурый молоденький корнет, оказавшийся именно Дантесом. За другим столом, помещавшимся рядом с тем, за которым сидел я с приятелями, было несколько офицеров постепеннее юной кавалергардской компании, и эти господа, кирасиры, уланы и конногренадеры, довольно громко вели свои речи, из которых невольным образом можно было узнать много курьезного; но здесь всему этому не место, почему, в уважение специальности моего предмета, скажу только, что относительно этого белокурого господина Дантеса соседи наши высказали: «Не хочет учиться говорить по-русски, а командные слова добрые товарищи ему понаписали французскими буквами; отвратительно дурно ездит верхом, и потому его взводному начальнику, поручику Василию Петровичу Апрелеву (умер полковником), знаменитому толстяку, но ездоку превосходному, с этим „Дантестишкой“ сущая комиссия. А со всем тем счастье-то ему какое: из собственной шкатулки государя назначено ему 5000 рублей ассигнациями в год содержания, дана казенная квартира и подарены с придворной конюшни два коня, парадер и подъездок14. Просто лафа!»
Года полтора или даже два спустя я однажды недумано, нежданно попал на один чисто французский вечер людей далеко не аристократического полета. На Невском проспекте против Гостиного двора был дом Рогова, а в доме этом был французский магазинчик всякой всячины мадам Дюливье, моей старинной знакомой, о которой я упоминал в моих воспоминаниях, в «Русском вестнике», как прошлого 1871, так и настоящего года15. Она была кузиной жены славившегося тогда во всем Петербурге парикмахера Шарля, имевшего свой блестящий магазин в доме Петропавловской церкви. Этот Шарль был громко известен как куафер16, а с тем вместе, и едва ли не больше, как каламбурист, который, причесывая ежедневно великого князя Михаила Павловича, снабжал его высочество своими каламбурами, изготовляемыми им почти каждый вечер в коллабораторстве двух своих компатриотов17, актера Верне и кавалергардского офицера Дантеса. И вот, благодаря убеждениям развеселой француженки Дюливье, мне привелось быть на одном весьма оживленном и приятном в своем роде парикмахерском балике, по случаю дня рождения супружницы мосье Шарля. Танцовавшие тут кавалеры были все во фраках; но между этими фрачниками проявились-таки двое в мундирах и эполетах, из которых один был путеец, фат, Альфонс де Резимон18, а другой фельдъегерский прапорщик Лефебр, щеголявший своим золотым аксельбантом и своим белым перистым султаном на треуголке, которую, ради плюмажа, он таскал под левой мышкой даже в танцах. Оба эти «милитеры»19, как называли их дамы этого общества, большею частью модистки и мелкотравчатые актриски, несколько раз во время вечера осведомлялись у хозяина дома, monsieur Шарля, почему это их общий приятель Дантес не приехал? Один из ответов Шарля я слышал ясно во время ужина. Ответ этот, сопровождаемый различными парижскими, невозможными в русском переводе каламбурами, остротами и игрою слов, не очень цензурного характера, заключался в том, что Дантеса на днях ни с того ни с сего усыновил голландский барон Гекерн и что теперь этот их общий приятель уже не просто Дантес, а барон Дантес-Гекерн, который, по-видимому, вздумал ломаться и важничать, отзываясь тем, что в этот вечер он давно заарестован вечером графини Воронцовой-Дашковой. Француз-амфитрион кончил тем, что поклялся за эту обиду отомстить бывшему камер-пажу беррийского двора тем, что не будет отныне впредь цитировать великому князю (à monseigneur) Дантесовых каламбуров, так как он только этим одним выигрывал доселе там, где были очень недовольны его фронтовой службой.
Не прошло месяца, помнится, после этого парикмахерского балика, на котором мне привелось быть так нечаянно и, поистине скажу, провести время далеко веселее, чем на балах нашей чиновничьей аристократии, и с тем вместе узнать курьезные подробности о мусье Дантесе, я находился во французском спектакле в Михайловском театре. Во время одного антракта я, оставив свое место, из числа тех, что подешевле, в задних рядах против скамеек, подошел к одной из бенуарных лож, где сидело знакомое мне семейство. В это самое время в ложу, бывшую рядом, в которой кроме одетой по самой последней моде дамы никого не было, вошел белокурый, розовощекий, расфранченный и тщательно завитой кавалергард, который, карикатурно произнося русские слова, нараспев сказал: «З-д-р-а-в-с-т-в-у-й-т-е к-н-я-г-и-н-я!», и эта княгиня – модная картинка тотчас стала ломаться и беззвучно хохотать, кокетливо закрываясь веером; а кавалергард объявил торжественно, уже по-французски и с парижским грассированием, что это единственно все то, что он знает из русского языка, кроме командных слов, и то благодаря серому жако княгини, который выучил его произносить эти два слова. Тогда княгиня-марионетка, опять ломаясь и кобенясь, стала уверять cher baron (любезного барона), что ей, как истой патриотке, желательно, чтоб он превозмог свою антипатию к русскому языку и заговорил бы по-русски, ne fut-ce que pour rire (хоть смеха ради). Барон, этот бывший камер-паж беррийской герцогини, столь известной своими эксцентричными проделочками20, и нынешний поручик первого полка русской гвардейской кавалерии, усыновленный вследствие какой-то грязноватой тайны развратным голландцем, холостым и бездетным, тогда громко на всю залу и во всеуслышание сказал: «Pourquoi pas? j’aurais appri le russe, si je ne craignais en parlant cette langue de me démettre la machoire» (Зачем нет, я выучился бы русскому языку, ежели бы не боялся, говоря по-русски, сломать себе челюсть). Княгиня-кукла и некоторые ей подобные, из породы не признающих отчизны аристократок, веселым смехом аплодировали своему милому нововыпеченному барону; но на массу русских зрителей французского спектакля слова эти подействовали неприятно, и в зале послышался неодобрительный ропот, заставивший розового блондина искать убежища за веером княгини, не защитившим, однако, слуха его настолько, чтоб он не услышал слов: «Fat, polisson, chenapan!»21 и прочих подобных любезностей, громче которых раздался из первого ряда кресел чей-то ясный и сильный голос: «Monsieur le baron ne paraît pourtant pas avoir peur de se démettre la machoire, en mangeant tous les jours le pain de notre hospitalité russe» (Господин барон, однако, не обнаруживает боязни сломать свою челюсть, когда ежедневно ест хлеб нашего русского гостеприимства). Публичный этот урок французу-фату был дан русским генерал-лейтенантом, носившим немецкую фамилию, при чисто русском сердце, именно бароном Константином Антоновичем Шлиппенбахом. Занавес взвился, началась новая пьеса, все сели на свои места, и в зале воцарилась тишина. Я, садясь на свое далекое от рампы кресло или, скорее, стул, взглянул на ложу бенуара, где сию минуту была блестящая барыня, за веером которой прятался новый барончик. Ложа была пуста, и только на ее барьере, обитом темно-синим плисом, лежала афиша, напечатанная на веленевой бумаге. «Ну, голубчик, – подумал я, – сказал бы ты такую нахальность в Лондоне, Вене или Берлине – была бы твоя розовая физиономия изрядно оскорблена градом гнилых яблок!»
Известно, что во время роковой дуэли 27 января 1837 года, когда пуля Дантеса впилась в грудь нашего бесценного Пушкина, последний, поддерживаемый секундантами, хотел выстрелить в противника и выстрелил действительно; но ослабевшая рука не могла держать твердо пистолета, а померкшее зрение изменяло при нацеливании, и г. Дантес получил в локоть левой руки такую легкую контузию, залечить которую было легко одним, много двумя компрессами арники. Со всем тем контузия послужила претекстом22 этому «герою» носить левую руку на черной шелковой перевязи во все время своего нахождения на гауптвахте и при явках в военно-судную комиссию, в здании казарм лейб-гвардии Конного полка. На членов комиссии, само собою разумеется, эта повязка ни малейшего эффекта не производила; а за тем, дамы высшего общества, вроде той смешной княгини, серый попугай которой учил monsieur Дантеса по-русски, вменяли себе в обязанность выражать ему свое участие, даже публично. В то самое время, когда всё мало-мальски интеллектуальное и честное народонаселение столицы горько оплакивало родного поэта, проклиная ту блестящую среду, в которую втолкнула его роковая судьба, эти самые дамы в экипажах подъезжали по несколько раз в день к платформе гауптвахты на Сенной, где всегда к ним являлся Дантес в белой фуражке набекрень, в форменном сюртуке на легком меху, имея левую руку на шелковом черном бандульере23 и жестикулируя правою, причем лицо его смеялось, а из уст летели стереотипные слова: «Dites leurs donc (princesse или comtesse), que je ne demande pas mieux que de verser mon sang au Caucase pour expier la mort de leurs poète» и пр. и пр. (Скажите же им (княгиня или графиня), что я готов пролить мою кровь на Кавказе за смерть их поэта).
Женатый, как известно, за три месяца до дуэли, стараниями Пушкина, на его свояченице, девице Гончаровой, старшей сестре его жены, барон Дантес-Гекерн, высланный из России, блаженствовал в чужих краях, где посещал модные воды карлсбадские, баденские и другие. На одни из этих вод в котором-то из сороковых годов приехал великий князь Михаил Павлович. Дантес всячески старался с ним встречаться и имел mauvais gout24 отдавать его высочеству воинскую честь, карикатуря стойку русского солдата перед генералом. Мне известно из достоверных источников, что его высочеству, как человеку со вкусом и преимущественно с душою, не полюбился этот фарс, и он старался избегать встреч с этим искателем приключений, некогда коллабораторствовавшим на фабрике каламбуров бывшего двора его куафера Шарля.
В 1867 году, вскоре по появлении в свете брошюры о дуэли Пушкина25, встретил я на улице, именно в Итальянской, около Пассажа, старинного моего знакомого, отставного генерал-майора Константина26 Карловича Данзаса, который был лицейским товарищем Пушкина и его секундантом в несчастной дуэли. Мы прошлись с ним несколько раз по Штейнбоковскому пассажу27, разговаривая об этой самой брошюре. Он заметил мне некоторые ее неточности, поясняя их. При этом я коснулся личности Дантеса, рассказав ему все то, что теперь вы, читатель, прочли. Данзас подтвердил, что, сколько ему известно, все это именно так, а не иначе, да по характеру г-на Дантеса, по-видимому, иначе-то и быть не могло, потому что истинно честный француз не умеет быть двуличным в своей политической жизни. Дантес же был легитимистом в качестве камер-пажа герцогини Беррийской, облагодетельствовавшей его, отрекомендовав так горячо императору Николаю Павловичу, под гостеприимным крылом которого он мог сделать такую блестящую карьеру. И чем же заплатил он старшей бурбонской линии? Тем, что в начале пятидесятых годов сделался бонапартистом, т. е. пристал к правительству и двору, жестоко враждебным поборникам белой лилии28. Известно, что этот барон Гекерн был камергером при дворе Наполеона III29. «Что же касается, – сказал покойный Константин Карлович, – до выраженного в 1837 году Дантесом желания, шутки ради и положительно лишь для красивого позированья, а не для чего иного прочего, проливать кровь свою на Кавказе, то, ежели бы желание это было искреннее, а не пошлые слова, пущенные им на ветер, конечно, он из чужих краев, чрез Австрию, мог приехать в Одессу и явиться на Кавказе, где волонтеров в ту пору принимали беспрепятственно».
Михаил Юрьевич Лермонтов в рассказах его гвардейских однокашников
(Из «Воспоминаний» В. П. Бурнашева, по его ежедневнику, в период времени с 15 сентября 1836 по 6 марта 1837 г.)
В одно воскресенье, помнится, 15 сентября 1836 года, часу во втором дня, я поднимался по лестнице конногвардейских казарм в квартиру доброго моего приятеля А. И. Синицына, с которым я года за два перед тем познакомился у П. Н. Беклемишева и теперь шел к нему приглашать на танцовальный вечер 17 сентября к общим нашим знакомым Масловым, тогда недавно водворившимся в столице, куда, для воспитания детей, они переселились из Рязани. Синицын в эту пору только что был произведен в поручики и назначен помощником командира запасного эскадрона, т. е. такого эскадрона, который состоял из молодых солдат и кантонистов30, большинство коих готовилось в музыканты, фельдшера, писаря и в разные другие полковые должности, состоя преимущественно из грамотного люда. Подходя уже к дверям квартиры Синицына, я почти столкнулся с быстро сбегавшим с лестницы и жестоко гремевшим шпорами и саблею по каменным ступеням молоденьким гвардейским гусарским офицером в треугольной, надетой с поля, шляпе, белый перистый султан которой развевался от сквозного ветра. Офицер этот имел очень веселый, смеющийся вид человека, который сию минуту видел, слышал или сделал что-то пресмешное. Он слегка задел меня или скорее мою камлотовую шинель на байке (какие тогда были в общем употреблении) длинным капишоном своей распахнутой и почти распущенной серой офицерской шинели с красным воротником и, засмеявшись звонко на всю лестницу (своды которой усиливали звуки), сказал, вскинув на меня свои довольно красивые, живые, черные как смоль глаза, принадлежавшие, однако, лицу бледному, несколько скуластому, как у татар, с крохотными тоненькими усиками и с коротким носом, чуть-чуть приподнятым, именно таким, какой французы называют nez à la cousine31: «Извините мою гусарскую шинель, что она лезет без спроса целоваться с вашим гражданским хитоном», и продолжал быстро спускаться с лестницы, все по-прежнему гремя ножнами сабли, не пристегнутой на крючок, как делали тогда все светски благовоспитанные кавалеристы, носившие свое шумливое оружие с большою аккуратностью и осторожностью, не позволяя ему ни стучать, ни греметь. Это было не в тоне. Развеселый этот офицерик не произвел на меня никакого особенного впечатления, кроме только того, что взгляд его мне показался каким-то тяжелым, сосредоточенным32; да еще, враг всяких фамильярностей, я внутренно нашел странною фамильярность его со мною, которого он в первый раз в жизни видел, как и я его. Под этим впечатлением я вошел к Синицыну и застал моего доброго Афанасия Ивановича в его шелковом халате, надетом на палевую канаусовую с косым воротом рубашку, занятого прилежным смахиванием пыли метелкою из петушьих перьев со стола, дивана и кресел и выниманием окурков маисовых пахитосов, самого толстого калибра, из цветочных горшков, за которыми патриархальный мой Афанасий Иванович имел тщательный и старательный личный уход, опасаясь дозволять слугам касаться до его комнатной флоры, покрывавшей все его окна, увешанные, кроме того, щеголеватыми проволочными клетками, в которых распевали крикуньи-канарейки и, по временам, заливались два жаворонка, датский и курский.
– Что это вы так хлопочете, Афанасий Иванович? – спросил я, садясь в одно из вольтеровских кресел, верх которого прикрыт был антимакассаром33, чтоб не испортил бы кто жирными волосами яркоцветной штофной34 покрышки, впрочем, и без того всегда покрытой белыми коленкоровыми чехлами.
– Да как же, – отвечал Синицын с несколько недовольным видом, – я, вы знаете, люблю, чтоб у меня все было в порядке, сам за всем наблюдаю; а тут вдруг, откуда ни возьмись, влетает к вам товарищ по школе, курит, сыплет пепел везде, где попало, тогда как я ему указываю на пепельницу, и вдобавок швыряет окурки своих проклятых трабукосов35 в мои цветочные горшки, при всем этом без милосердия болтает, лепечет, рассказывает всякие грязные истории о петербургских продажных красавицах, декламирует самые скверные французские стишонки, тогда как самого-то Бог наградил замечательным талантом писать истинно прелестные русские стихи. Так небось не допросишься, чтоб что-нибудь свое прочел! Ленив, пострел, ленив страшно, и что ни напишет, все или прячет куда-то, или жжет на раскурку трубок своих же сорвиголов гусаров. А ведь стихи-то его, это просто музыка! Да и распречестный малый, превосходный товарищ! Вот даже сию минуту привез мне какие-то сто рублей, которые еще в школе занял у меня Курок36… Да, ведь вы Курка не знаете: это один из наших школьных товарищей, за которого этот гусарчик, которого вы, верно, сейчас встретили, расплачивается. Вы знаете, В[ладимир] П[етрович], я не люблю деньги жечь; но, ей-богу, я сейчас предлагал этому сумасшедшему: «Майошка, напиши, брат, сотню стихов о чем хочешь: охотно плачу тебе по рублю, по два, по три за стих с обязательством держать их только для себя и для моих друзей, не пуская в печать». Так нет, не хочет, капризный змееныш этакий, не хочет даже «Уланшу» свою мне отдать целиком и в верном оригинале, и теперь даже божился, греховодник, что у него и «Монго» нет, между тем Коля Юрьев давно у него же для меня подтибрил копию с «Монго». Прелесть, я вам скажу, прелесть, а все-таки не без пакостной барковщины37. C’est plus fort que lui!38 Еще у этого постреленка, косолапого Майошки, страстишка дразнить меня моею аккуратною обстановкою и приводить у меня мебель в беспорядок, сорить пеплом, и, наконец, что уж из рук вон, просто сердце у меня вырывает, это то, что он портит мои цветы, рододендрон вот этот, и как нарочно выбрал же он рододендрон, а не другое что, и забавляется, разбойник этакой, тем, что сует окурки в землю, и не то чтобы только снаружи, а расковыряет землю, да и хоронит. Ну далеко ли до корня? Я ему резон говорю, а он заливается хохотом! Просто отпетый какой-то Майошка, мой любезный однокашник.
И все это Афанасий Иванович рассказывал, стараясь как можно тщательнее очистить поверхность земли в горшке своего любезного рододендрона, не поднимая на меня глаз и устремив все свое внимание на цветочную землю и на свою работу; но, вдруг заметив, что и я курю мои соломенки-пахитосы, он быстро взглянул, стоит ли в приличном расстоянии от меня бронзовая пепельница. Вследствие этого не по натуре его быстрого движения я сказал ему:
– Не опасайтесь, дорогой Афанасий Иванович, я у вас не насорю. Но скажите, пожалуйста, гость ваш, так вас огорчивший, ведь это тот молоденький гусар, что сейчас от вас вышел хохоча?
– Да, да, – отвечал Синицын, – тот самый. И вышел, злодей, с хохотом от меня, восхищаясь тем, что доставил мне своим визитом работы на целый час, чтоб за ним подметать и подчищать. Еще слава богу, ежели он мне не испортил вконец моего рододендрона. Я, вы знаете, не прочь принять товарища и угостить чем Бог пошлет; но терпеть не могу, когда приятели нарушают заведенный у меня порядок, и невольно в таком разе отвечаю им словами мельника в Сан-Суси из известной исторической побасенки Андриё: «Chacun est maitre dans sa maison!»3940
Спустя несколько времени добрейший Афанасий Иванович, приведя все в порядок, несколько поуспокоился после визита шаловливого гусарчика, произведшего у него такую кутерьму, и сидел уже, поджавши ноги, на диване, усердно занимаясь другим важным делом – расчесыванием волнистой шерсти великолепного своего Атаргуля (тогда романы Евгения Сю были в великой моде41), эспаньоля42 темно-кофейной масти, пользовавшегося привилегиею ложиться с ногами на диван; но, впрочем, и то правда, что щепетильно-аккуратный и опрятный, как квакер или гернгутер43, как его называли полковые товарищи, владелец этого изящного пса дозволял ему эту исключительную льготу не иначе как по личному удостоверению в том, что тринадцатилетний мальчик-казачок Фифка (т. е. Феофилакт), имевший специальною обязанностью пестунство и уход за Атаргулем, старательно вытер лапы своего воспитанника после каждого его возвращения со двора.
Чтоб не играть долго в молчанку, которая с Афанасием Ивановичем была, впрочем, довольно обыкновенна, а вместе с тем несколько заинтересованный моею встречею с гусарским офицером, обратившимся ко мне с такою странною шуткою, я спросил Синицына: «Кто же этот гусар? Вы называете его Майошкой, но это, вероятно, школьная кличка, nom de guerre44?» – «Лермонтов, – отвечал Синицын, – мы с ним были вместе в кавалерийском отделении школы; только он и несколько других юнкеров оставались в школе после меня, почему надели эполеты лишь в прошлом году45. Я их всех чинами перегнал, потому что на днях ведь меня произвели в поручики, что чудо из чудес у нас в конной гвардии, где все страх как засиживаются в чинах, не то что в кавалергардах, у которых почти что год, то чин; долго эти господа там не служат, а больше всё разлетаются в адъютанты или выходят в отставку и уезжают за границу. Наши же все служаки; к тому же у нас много остзейцев, а эти как где засядут, так сидят там крепко, стараясь перетащить к себе побольше своих земляков».
– Вы говорили давеча, любезнейший Афанасий Иванович, – спросил я, почти не слушая служебных рассуждений моего собеседника, – вы говорили, что этот гусарский офицер, Лермонтов, пишет стихи?
– Да, и какие прелестные, уверяю вас, стихи пишет он! Такие стихи разве только Пушкину удавались. Стихи этого моего однокашника Лермонтова отличаются необыкновенною музыкальностью и певучестью; они сами собою так и входят в память читающего их. Словно ария или соната! Когда я слушаю, как читает эти стихи, хоть, например, Коля Юрьев, наш же товарищ, лейб-драгун, двоюродный брат Лермонтова, также недурной стихотворец, но, главное, великий мастер читать стихи, – то, ей-богу, мне кажется, что в слух мой так и льются звуки самой высокой гармонии. Я бешусь на Лермонтова главное за то, что он не хочет ничего своего давать в печать, и за то, что он повесничает со своим дивным талантом и, по-моему, просто-напросто оскорбляет божественный свой дар, избирая для своих стихотворений сюжеты совершенно нецензурного характера и вводя в них вечно отвратительную барковщину. Раз как-то, в последние месяцы своего пребывания в школе, Лермонтов, под влиянием воспоминаний о Кавказе, где он был еще двенадцатилетним мальчишкой, написал целую маленькую поэмку из восточного быта, свободную от проявления грязного вкуса. И заметьте, что по его нежной природе это вовсе не его жанр, а он себе его напускает, и все из какого-то мальчишеского удальства, без которого эти господа считают, что кавалерист вообще не кавалерист, а уж особенно ежели он гусар. И вот эту-то поэмку у Лермонтова как-то хитростью удалось утащить его кузену Юрьеву. Завладев этою драгоценностью, Юрьев полетел с нею к Сенковскому и прочел ее ему вслух с тем мастерством, о котором я уже вам говорил сейчас. Сенковский был в восторге, просил Юрьева сказать автору, что его стихотворения все, сколько бы он их ни давал, будут напечатаны, лишь бы только цензура разрешила. А та-то и беда, что никакая в свете цензура не может допустить в печать хотя и очаровательные стихи, но непременно со множеством грязнейших подробностей, против которых кричит чувство изящного вкуса.
– А, вот что, – заметил я, – так эта прелестная маленькая поэма «Гаджи-Абрек», напечатанная в «Библиотеке для чтения» прошлого, 1835 года, принадлежит этому маленькому гусарику46, который сейчас почти закутал меня капишоном своей шинели и уверял меня, личность ему совершенно не знакомую, что его гусарский плащ целуется с моею гражданскою тогою, причем употребил один очень нецензурный глагол, который может быть кстати разве только за жженкой в компании совершенно разнузданной. Кто бы мог подумать, что такой очаровательный талант – принадлежность такого сорвиголовы!
– Ну, эта фарса с шинелью очень похожа на Лермонтова, – засмеялся Синицын. – За тем-то он все хороводится с Константином Булгаковым47, проделками которого нынче полон Петербург, почему он, гусь лапчатый, остался лишний год в школе. Однако, многоуважаемый В[ладимир] П[етрович], я с вами не согласен насчет вашего удивления по поводу поэтического таланта, принадлежащего сорвиголове, как вы сказали. После Пушкина, который был в свое время сорвиголовой, кажется, почище всех сорвиголов бывших, сущих и грядущих, нечего удивляться сочетанию талантов в Лермонтове со страстью к повесничанью и молодечеству. А только мне больно то, что ветреность моего товарища-поэта может помешать ему в дальнейшем развитии этого его дивного таланта, который ярко блещет даже в таких его произведениях, как, например, его «Уланша». Маленькую эту шуточную поэмку невозможно печатать целиком; но, однако, в ней бездна чувства, гармонии, музыкальности, певучести, картинности и чего-то такого, что так и хватает за сердце.
Князь-нос, сопя, к седлу прилег —Никто рукою онемелойЕго не ловит за курок». (Меринский А. М. М. Ю. Лермонтов в юнкерской школе // М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. С. 166–167).
На вздор и шалости ты хват,И мастер на безделки,И, шутовской надев наряд,Ты был в своей тарелке.За службу долгую и труд,Авось на место класса,Тебе, мой друг, по смерть дадутЧин и мундир паяса. Почти одновременно с Лермонтовым Булгаков перешел в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в Петербурге, откуда был выпущен в лейб-гвардии Московский полк.
Великий князь Михаил Павлович – генерал-фельдцейхмейстер, ведавший всей артиллерией и инженерными войсками, гроза гвардии – самодур и грубиян, знал Булгакова еще лицеистом в 1825 г. и теперь прощал ему остроумные выходки, невольным участником которых нередко бывал сам. В. М. Еропкин в числе других анекдотов о Булгакове рассказывает: «Его высочество едет по Большой Морской. Булгаков идет в калошах, которые строго были запрещены офицерам. Его высочество закричал: „Булгаков, калоши, под арест!“ Немедленно отправляется Булгаков в комендантскую и сдает калоши под арест, со словами: „по личному приказанию его высочества Михаила Павловича“» (Русский архив. 1878. № 2. С. 183). В письме от 20 декабря 1833 г. Михаил Павлович писал А. Я. Булгакову-отцу: «Хочу поговорить с Вами о Вашем сыне <…>. Это молодой человек прекрасного сердца, умный и вообще богато одаренный природою <…> он брошен был в свет, может быть, слишком рано и с самого раннего возраста наслаждался им всячески <…> весьма естественно, что ему стало большого труда освоиться с тем порядком, которому надлежало подчинить его наравне со всеми его товарищами, как скоро он поступил в школу подпрапорщиков <…>. От этого он пришел в уныние и вообразил себя ни к чему не годным…» (Русский архив. 1873. № 3. С. 0422). Сохранились интереснейшие письма М. И. Глинки к Булгакову в зрелых годах (1855–1856). Они характеризуют К. А. как человека, хорошо знающего музыку. В предисловии к этим письмам М. Лонгинов пишет: «Кто не знал в свое время Булгакова <…> он не развил далеко своих блестящих дарований, но был по природе артист, отличный музыкант и певец по призванию. Он страстно был „привязан к искусству“» (Русский архив. 1869. № 2. С. 350). (Примеч. Ю. Г. Оксмана.)].