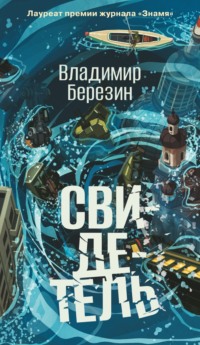Kitobni o'qish: «Свидетель»
© В. С. Березин, 2025
© Оформление ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2025
Издательство Азбука®
* * *


Летопись будничных злодеяний теснит меня неумолимо.
Исаак Бабель
Пусто и хорошо. Нет обязательств. Лучшая профессия – Родину… Что? Даже само слово пишется непонятно – то ли с большой буквы, то ли с маленькой. Бога нету, или всё же Он есть, судя по происходящему – всё же есть, но я уже никакой не капитан. Да и был им случайно, по воле отца. Вернее, я запа́сен, запасён, положен куда-то до новых времён. Государство только что поменяло имя и съёжилось. Но новые времена – непонятны, никто не знает, придут ли они, не придут, никому не известно, какими они будут. Запас портится, запасные спят, солдаты гуляют с пастушками, дерутся с парнями, всё больше амуниции исчезает в кладовой шинкаря. Слава богу, война кончилась, говорят селянки, нянча сорных солдатских детей. Кто ты после окончания похода? Пора по домам, варить старухам по пути кашу из топора, травить байки, балуясь чужим табаком. Но это обман, недоразумение, война высовывается из рукава, будто припрятанная шулером карта. Государства хранят вечный мир, воюют только люди, только люди несут ответственность за будничную кровавую возню. С благословения и без они начинают улучшать жизнь, взяв в руки оружие. Любая драка совершается из лучших побуждений. История эта вечна, скучна, она повторяется с точностью до запятой, уныло ведя счёт истреблённым. Даже количество крови в человеке остаётся прежним – две трёхлитровые банки – так же, как и века назад. Война гудит, как судно в тумане, её не видно, но она рядом. Не спрашивай о колоколе, он устал звонить. Боевая сталь ещё в руках, она не покидает этих рук, и не остывают ни рукоять, ни клинок, только согреваются они по-разному. Если нельзя драться по-крупному, дерутся по-мелкому. Войска не распущены, они просто застоялись. Начала у войны нет, а есть только продолжение. Кем ты стал, кто ты есть во время этого продолжения, приближающегося, как «Титаник», и айсберг уже неподалёку. Шинкарь вытаскивает заложенное оружие из погреба и раздаёт – своим или чужим. Остаётся лишь сочинять письма до востребования.
Я начал черкать что-то на обороте карты – прямо в поезде. В поезде писать было странно – сложно и просто одновременно. Сложно – потому что качает, неудобно, карандаш клюёт бумагу. С другой стороны, всегда есть о чём: вот в тамбур вошёл небритый парень и тут же, отвернувшись к запотевшему окну, вывел на стекле по-русски: «Джохар».
Нужно записать и это.
В вагоне уже давно воцарился особый запах – полежавших варёных яиц, вчерашней котлеты, потных детей и несварения желудка.
Это мир, где одинокому не дадут пропасть, поднесут ему помидорчик, насыплют соли на газетку, одарят картофелиной во влажной кожуре.
В этом мире стучали друг о друга какие-то незакреплённые детали, хлопала дверь тамбура.
Впрочем, я ехал и ехал, валился под колёса ясный солнечный день – мелькнули купола Спас-Андроньевского монастыря, засуетились от поездного ветра банки и бумажки на склоне, блеснули крыши гаражей в зоне отчуждения.
Меня сморило, и сразу же явилось видение – адские врата, железные, огромные, с колючей проволокой поверху, а вокруг был лай конвойных собак и крупа, несущаяся в лицо. Но не меня охранял конвой, а я сам был им. Хотя всё ехал и ехал, ночь окутывала мир, побаивался я таможенников и пограничников и не знал, чего хотят они от меня. Ехал подальше от любви и от дел. В школе я так мечтал поехать в Венецию зимой – поехать на поезде, через все многочисленные границы, поехать так, чтобы меня будили пограничники всех крохотных стран, пятная мой паспорт разноцветными печатями. Я жил неподалёку от вокзала и, торопясь на электричку, видел прицепной вагон на Венецию – точно такой же, как остальные зелёные вагоны, но с этой сказочной табличкой на борту.
А этой весной я выходил на холодные перроны, смотрел – не пахнет ли югом. Вот вывалился из вагона на перрон бодрый старикан и, тупо глядя в пространство, раскатисто произнёс:
– Граждане куряне, все ли вы с…
Тут он оборвал стих, а постояв молча, пропел:
Пиво жигулёвское,
Розовые раки —
Приходи ко мне, девчонка,
Я живу в бараке.
Итак, писать очень трудно. Так бы я хотел начать, но начал с того, что никакого Крыма нет.
Его, собственно, не может быть.
Не известно никакого доказательства его существования.
Все имеющиеся косвенны и напоминают известное «корабль, удаляясь, исчезает за линией горизонта, значит…»
Это не значит ничего.
Географические карты доказывают существование сотен городов, и некоторые из них даже с миллионным населением. Где, например, город Свердловск? Между тем ни на какой карте не найдёшь рая или ада, в существовании которых уверено огромное количество людей.
Итак, Крым существует лишь в воображении, но я медленно приближался к нему.
Я видел, что свободного места в поездах стало мало.
Люди везли что-то важное – и для себя, и для других, но меня это не очень занимало. Поезд был набит странными людьми. Они, как казалось, одиннадцать месяцев занимались каким-то глубоко противным им делом и наконец, усевшись на вагонные полки, приступили к другому, настоящему.
Мои попутчики не понимали смысла моего перемещения. Меня несли не средства транспорта, а средства перемещения согласно жёлтому плацкартному билету.
Цыганки напрасно звенели своими монистами, сверкали золотыми зубами, и напрасно грязные босые дети, плача, плясали на жарком станционном асфальте – я знал всё, что со мной будет. Взгляд оставлял их внизу, ниже двойного железнодорожного, закрытого на вечную зиму окна. Вот они переместились с его левого края на правый, исчезли. Их громкие крики ещё слышны, но звук колёс становится громче.
Перемещение – вот ключевое слово, между тем думал я.
Хотелось что-нибудь записать, всё равно что, записать, заменяя общение со спутниками. Впрочем, спутников у меня уже давно не было, были только попутчики.
А с попутчиками давно перестал я желать общения.
Во время этого долгого перемещения одиночество следовало за мной.
Но вот я наконец достиг мыса Тарханкут, где степь обрывается в море, а вода плещет в скальные ниши.
Сверху, сквозь прозрачную воду, были видны камни на дне и зелёные пятна водорослей.
А над всем этим жили, двигаясь подобно гигантским насекомым, радиолокационные антенны, и каждая раскачивалась, вертелась по-своему, в разных плоскостях.
Я смотрел с обрыва на склон и заходящее багровое солнце. Что-то рвалось в самом сердце, и казалось, что нужно запомнить навсегда или записать это что-то.
Но долго такое состояние не может длиться, снова нужно было выходить к людям.
Вблизи Тарханкута я пристал к лагерю религиозных людей.
Они были мало приспособлены к полевой жизни.
Странно в ней беззащитными.
Я чинил им палатки, орудуя кривой иглой, и разговаривал о вере.
Были хозяева в этих разговорах похожи на тренированных пилотов в нештатной ситуации. Мгновенно перебирали заученные варианты реакции, а когда становились в тупик, отсылали к братьям по вере – по месту жительства оппонента.
Я отвечал им чужой фразой, чтобы не спорить. Приятель мой, объёмный чудной человек, слоняясь по Москве за однокурсницей, задумчиво повторял: «Непросто это, Татьяна, непросто…»
Эту фразу и я печально тянул, вздыхая, в ответ на тягучие речи этих свидетелей высшего знания, – и значило это, что не спорю, но и не соглашаюсь.
При этом я думал про себя о том, как красиво и метафорично имя этих людей.
Свидетели.
Как многозначительно это название и как странны эти люди.
Лагерь напоминал пионерский – с дежурствами, первой группой, второй группой, какими-то начальниками. Пробираясь в ночи между палаток, я видел, как они ведут при скудном свете переносных лампочек свои политзанятия.
– А на это, – слышался голос невидимого инструктора, – нужно рассказать притчу о жучке. Дело в том, что…
Море гремело в двух шагах от палаток. На полоске песка, заглушаемые прибоем, разговаривая, стояли две маленькие девочки.
Одна твердила другой:
– И весь этот мир подарят нам там!
А другая отвечала, сообразуясь с какими-то пророчествами:
– Но этих звёзд мы больше не увидим…
И неведомая мне самоотверженность была в словах этой маленькой девочки, неведомый подвиг. Дескать, эти звёзды так красивы, но, если так надо, я готова проститься и с ними.
Но я был далёк от этих жертв, и они мне не нравились.
Пришлось покидать их лагерь в темноте, и это тоже похоже на метафору.
Была ночь, и лагерь спал. Как и все эти дни, грохотало море, и неравномерными вспышками бил маяк с мыса. Я взвалил на себя рюкзак и, перешагивая через растяжки палаток, пошёл к дороге. Автобусы не ходили, а путь до ближайшего городка мне предстоял неблизкий – километров тридцать.
Пока я шёл, начало светать.
Потом, сменив автобус на троллейбус, попал я на шоссе к морю, там жил один мой знакомец. Он обитал в убогом домике, похожем на школьный пенал. Пенал имел крохотные отделения для карандашей-отдыхающих.
Прислонив рюкзак к стене, я приоткрыл дверь.
Он спал ничком, как убитый солдат. Много кто в моей жизни спал так.
Мы с ним путешествовали из одного конца полуострова в другой, окунаясь в духоту автостанций и подъезжая на попутках. Местный поезд, задыхаясь, вёз нас спиной вперёд по степи, мимо пересохших озёр и жухлой травы.
Вместо названия единственной станции было написано: «Кафе „Встреча“». Это было указание на будущие знакомства.
Сидя на обочине, мы разглядывали виноградники, утыканные бетонными палочками. Поля эти были похожи на плантации растущих телеграфных столбов – совсем пока маленьких, белых и чистых.
Машины проносились мимо – загорелая рука, высунувшаяся из окна, рассеянный взгляд. Выбритая наголо женщина за рулём; старик, везущий доски на крыше; семья и мальчик, прилипший к окну. Ехал грузовик со странной конструкцией в кузове, похожей на гиперболоид, мчался продуктовыйрафик, пыхтел тяжеловоз с огромной чёрной трубой на прицепе.
Все ехали куда-то, наверное тоже находясь в поисках смысла.
Но вот и нас подобрал автобус, и мы присоединились к братству Перемещения.
С нами ехали татары. Говорили они чудно́ и быстро. Ехала женщина с девочкой позади нас и говорила с дочерью, наоборот, медленно – как неисправные магнитофоны того времени. Автобус проскакивал ущелья и въезжал в деревни, а сами деревни заканчивались длинными навесами для сушки табака. Там висел настоящий табак, зелёно-жёлтый, кольцами навязанный на верёвки.
У Владиславовки, под стеной железнодорожного сооружения, было изображено нечто совсем забытое: четыре коричневых лица и подпись: «Коммунизм – это молодость мира, и его возводить молодым!» Была пора, когда таких лиц было трое – русский, негр и китаец. Потом китайца стали заменять вьетнамцем. Здесь всех строителей коммунизма уравняли палящее солнце и пыль. Молодость разных народов была неразличима. Мы лениво курили, разглядывая неизвестный стройотряд.
– Это ничего, – глубокомысленно сказал мой друг. – В Феодосии, на автостанции, есть вывеска: «Пункт гигиены». Это сортир.
Мы забирались в горы и рассматривали созвездия на выгнутом южном небе. Деловитые спутники-истребители перемещались по его картонной черноте – без всякого билета.
Мимо нас пролетали жучки, мошки и бабочки пролетали мимо нас, большие птицы, взмахивая крыльями, пролетали мимо нас. Муравьи, с шорохом перебирая лапками, пробегали мимо нас. Стада баранов поутру, звеня колокольчиками, проходили мимо нас по каменистым дорогам.
Осмысленная жизнь проходила внизу, мимо нас, лежавших на макушке холма.
На горном плато мы встретили одинокого толстого человека в панамке, который громко бормотал, уговаривая самого себя:
– А вот и чaбрец, его – можно, значит… Можно, если без корня. А вот и саранча – её и с корнем можно… И никому не повредит.
Короткие толстые пальцы человека шевелились в земле как червяки, а карманы его наполнялись разноцветной травой.
Солнце заходило между холмами, окрашивая наши лица в алый цвет.
Лёжа на обрыве полуострова Казантип, друг мой изучал ракушки. Ракушки держались на клейких соплях сидящих в них улиток, так что это были скорее не ракушки, а раковины, примостившиеся на каждом камешке в бухте. Обернувшись, я рассматривал стройку Крымской АЭС. Казантип был объявлен заповедным, и, может, оттого, а не вопреки этому в каждой бухточке стояла палатка, а в воде вместе с полиэтиленовыми медузами отдыхали нарушители. У горизонта Азовского моря медленно перемещалось какое-то корыто.
Перемещение – вот что гнало нас с Казантипа в безводную долину грязевых вулканчиков под Булганак, где на гладких серых зеркалах лопаются метановые пузыри.
Мы снова пересаживались с автобуса на троллейбус. Троллейбус же вёз нас к морю. По морю мы плыли на чадящем кораблике серии «Александр Грин», рывками перемещавшегося в пространстве.
На причалах толпились люди в соломенных шляпах, снимающие с себя, как майки, обгоревшую кожу.
Из-под навесов нам уже кричали, призывно поднимая стаканы.
Мы скидывали рюкзаки и подсаживались. Луна заслоняла солнце, но стаканы не успевали высыхать. В нашу компанию вливались маленькие бутылочки с крымским рислингом за девяносто копеек. Нас сопровождала мадера «Крымская», с картой полуострова на этикетке. Утром наш взгляд встречал коньяк «Коктебель» в пузатой бутылке. Стоя на тумбочке, она, эта бутылка, давала повод приподняться с кровати.
В генуэзском кабаке нам наливали портвейн в трёхлитровые банки, а у автобусной остановки мы запасались пивом. Под столиком я коллекционировал бутылки – вот «Бастардо», вот «Ай-Серез», вот массандровский портвейн разных цветов. По этим названиям можно было вести календарь.
Будь моя воля, я бы называл вина шекспировскими именами – белое сухое «Офелия», портвейн «Полоний», горькая настойка «Король Лир»… Ну и конечно, коньяк «Гамлет».
Впрочем, закавказские личные имена давно уже включили в себя этот ряд.
По телевизору между тем шла реклама со словами «спокуса смаку». Я воспринимал эти слова как закуску. Закуски во всех смыслах у нас было маловато.
Бывшие советские республики оказались чем-то вроде женщины, с которой у тебя был роман, но вы расстались, и эта женщина прожила уже самостоятельную жизнь, чуть состарилась, достигла чего-то, и вот вы встретились, и ты пытаешься ухаживать за ней снова.
Сколько ни любовались мы, словно герои великого Де Костера, своими флоринами, все они отправились в страну беспутства под звон бутылок и дребезжание кружек.
И снова вокруг нас вращались Владиславовка, Щепетовка, Приветное, Соколиное, снова Приветное. Случайно я попал в гости к уцелевшим евреям, вернее, вовремя уехавшим. И теперь мы пили жидкий чай и слушали тревожные еврейские песни. Уцелевшие старики кивали в такт своими бородами, похожими на грязные клочкастые подушки.
Я представлял себе, что это осколок другой идеи – мифической автономии евреев в Крыму. Кажется, за это расстреляли Еврейский антифашистский комитет. Богоподобная власть решила, что Крым тождествен Земле обетованной, объектом устремления, замещающим Эрец-Исраэль.
Один мой знакомый кинематографист на вопрос, почему все съёмки советского кино происходили в Крыму, ответил:
– Очень просто: всё дёшево и всё есть.
Действительно – всё было, практически любой тип природы можно найти в Крыму. Это превращает Крым в Эдем, рай-заповедник. Этот кинематографист рассказывал мне, что не только кавказских пленников лучше снять в Крыму. Однажды группа отдыхающих у Нового Света заглянула в туннель, пробитый в скале для царской дороги. За прошедший день внутренность туннеля изменилась, на его стене появилась стальная дверь с кнопочным управлением.
Люди задумчиво ковыряли кнопки.
Дверь не открывалась.
Потом выяснилось, что это дверь на американскую военную базу из приключенческого фильма про военных моряков.
Идя по лесу, можно обнаружить истлевшую боевую колесницу и останки летающей тарелки. Что, спрашивается, больше реально – современная военная техника или обнаруженный тобой в пляжном песке шлем римского легионера с мосфильмовским клеймом?
Я опять думал о войне, потому что это была очень странная часть человеческой деятельности. Она была присуща всем народам, и в каждой стране было министерство обороны, но ни в одной – министерства нападения.
Проезжая на троллейбусе мимо села Перевального, точно посередине между Симферополем и Алуштой, я постоянно встречал толпу негров в солдатских шинелях советского образца. Военная история Крыма удивительна. Даже если делить мемуарные цифры на воображаемый коэффициент правды, партизанские действия в крымских горах поражают. Горные аэродромы оборонялись от немыслимых полчищ вражеских солдат. При этом Крым – странная земля с налётом ничейности – она принадлежала всем и одновременно никому. Какой-то очередной наш собеседник говорил, что, согласно мирному договору с Турцией двухсотлетней давности, именно она, Турция, а не какое другое государство должно владеть Крымом. Я никогда не спорил в разговорах о политике.
«Да-да, – говорил я. – Турция. Как интересно».
Миф косвенно сообщал о том, что Крым не принадлежит никому. Как не может принадлежать никому Царство Божье. И точно так же, как метафора не может принадлежать никому. Она может лишь иметь исторические корни восприятия.
Впрочем, и это я хотел записать, потому что эти законсервированные разговоры могли потом пригодиться.
Но горный рай был опасен и без войны.
В начале восьмидесятых по рукам моих друзей ходила книжка «Осторожно, горы!». Это было руководство по технике безопасности, написанное не столько для туристов, сколько для отдыхающих. Оно больше напоминало страшный сюжет: «На охоту поехало шесть человек, а вернулось-то только четыре. Двое-то не вернулись».
Несколько туристов в жаркий летний день замёрзли в Большом каньоне. Курортника снимали со скалы при помощи вертолёта. Студент с переломленным позвоночником жил в пещере ещё сутки. Школьники заразились энцефалитом. Море выносило утопленников десятками. Купальщица умерла в мучениях после встречи с медузой.
Много лет назад я был в этих горах, поднимался вверх и опускался вниз вместе со своей будущей бывшей женой. Стоял ноябрь. Моросил дождь, между тем воды в горах было мало. Приходилось черпать её из каменных ванн – настоянную на буковых листьях.
Чёрный этот настой был явной отравой, как настой на мухоморах берсеркеров.
На плато Караби мы оставили рюкзаки, чтобы добежать до края, – закатное солнце валилось в тучи, кровянило их, как вату. Зрелище стоило того – и мы несколько минут зачарованно наблюдали этот катаклизм.
Начался ветер. Снизу, как тесто из квашни, вывалился туман и пошёл на нас стеной. Туман опережал нас, хоть мы бежали к нашим припасам. Но рюкзаки, оставленные в двухстах метрах, было невозможно обнаружить.
Начался дождь.
А в полночь повалил снег. Начинался между тем праздник Октябрьской революции. Спасения не было. Я разломал дорогую диковину аудиоплеер и развёл костёр в карстовой воронке. В трёх шагах от костра было холодно, рядом – жарко, а сверху на нас лила оттаявшая вода с дерева. Мы грели друг друга телами и отчасти грели крохотный костёр из веток этого дерева, покрытых льдом. Наутро мы увидели, что всё запорошило – и на плато молчаливо лежит толстое ватное одеяло, выпавшее из туч.
Потом мы спускались по белому склону гор – и это была Япония. Тёмно-красные ягоды дрожали на чёрных ветках. Мягкий снег уже перестал идти.
За сутки была прожита судьба. В горах осталосьлишь пустое место, где мы любили.
Крым – это метафора личной жизни. Отпускной роман. Студенческие каникулы. Предел романтики развитого социализма – путешествие в Ялту на три дня зимой. С расплатой за легкомыслие – потому что ничего незначащего в жизни нет.
Литературоцентрическая цивилизация имела в Крыму множество точек привязки. Чеховская Ялта, Бунин, суетливость и поэтичность Гражданской войны, описанная Сельвинским, стихи Мандельштама, Паустовский и один из самых страшных текстов, написанный Аркадием Гайдаром. В этом тексте есть всё – будущее крымских татар, пионеры-герои, барабанщики, спрятанные ружья, смерть, любовь и Военная тайна, которой никто никогда не узнает.
Предвестником беды маячил рядом с Коктебелем мыс, по странному совпадению названный– Лагерный. Однако – совпадений не бывает.
Главной точкой крымской литературной метафоры был Коктебель. В его исконном названии был оттенок фронды. Коктебель был структурирован, как и вся русская литература двадцатого века. Каждый из ступающих на узкую полоску бухты играл свою ритуальную роль. Все приезжали туда,где, языкат, грозил пожаром Турции закат.
А теперь эпоха кончилась вместе с шорохом камешков под колёсами растаможенных автомобилей. Крым перестал быть дачной столицей русской литературы.
Лишь одиноко торчало над горами какое-то сооружение. Если находили знающего человека, то он отвечал:
– А-а, это – искусственная луна.
Что это за искусственная луна, знающий человек, как правило, уже не знал.
Это была метафора.
По слухам, у русской литературы было время солнца и Серебряный век.
Теперь кончилось даже время искусственной луны.
Знак искусственной луны занял своё место среди приличествующего ему окружения – среди печатных знаков.
Я ехал и ехал – куда-то в никуда, понимая, что путешествую между разными людьми и они передают меня друг другу, как эстафетную палочку. Это мне нравилось, потому что невозможно было привязаться к ним по-настоящему. Нравилось мне это и тем, что и одиночество держалось на расстоянии, не решаясь приблизиться.
Впрочем, скорее оно было похоже на снайпера в засаде.
Я поднимался на пустынные равнины яйл – горных пастбищ – и вспоминал весенний Крым. Там мысли об одиночестве тоже занимали меня, когда я доходил до края яйлы. Нехитрый мой ночлег обустраивался быстро, а до сна было ещё далеко. Той, давней весной я приехал сюда после школьных каникул, и оттого Крым был пуст. Тогда мне не встретился ни один человек наверху, и это было хорошо.
Я спал у ручного огня и был спокоен той весной.
Лёжа под перевёрнутой чашкой неба, я перебирал в уме всё то, что не успел в жизни.
Сколько я ни искал сейчас прежних стоянок – я не нашёл ничего.
И это было правильно. Когда б обнаружились приметы прошлых ночёвок, одиночество безжалостно сдавило бы моё сердце.
А теперь можно было вспоминать другие горы, то, как мы шли вдоль мутной реки, а у меня за плечами болтался уже не рюкзак с альпснаряжением, а мешок с рацией и запасными рожками к автомату. Такие воспоминания хотелось отогнать, но в моём одиночестве они приходили снова.
Я добрался до Коктебеля и начал искать свою знакомую, обещавшую устроить меня на постой.
Однако я не понравился хозяину, и он отказал мне в проживании. Мысль о том, что сейчас нужно ходить по домам и спрашивать комнату, была отвратительна.
Так и вышло – всюду мне отказывали.
Не было места на одного.
Двоим или троим устроиться проще, а для одного комнат не строят, они невыгодны. Одному устроиться трудно, и это опять имеет какой-то двойной смысл.
Я спустился на пляж и начал думать дальше, греясь на солнце и от грусти не боясь обгореть. Море ворочало солёную воду, и ходили задумчиво по пляжу голые женщины.
Было их много, и от нечего делать я рассматривал их загорелые груди – упругие, круглые, отвислые, остроконечные, плоские…
Рядом со мной сидела женщина в нижней части бикини, и я с удивлением обнаружил, как мало она отличается от мужчины.
Было непонятно, что я вижу – сильные мужские мышцы или маленькую женскую грудь.
А в стороне сидели ещё две – очень красивые, как мне казалось: можно было бы, наверное, найти в них, в этих женщинах, какие-нибудь недостатки, но мне этого совсем не хотелось. Отчего-то мне было больно глядеть на одну из них.
Это была не зависть к их красивой жизни, нет. Я думал – всё надо запоминать.
Я глядел на женщин без вожделения и думал, что, когда стемнеет, я раскатаю свой спальник где-нибудь на сопке и засну, а утром, может быть, поеду дальше или снова поднимусь на плато, с которого напрасно спустился.
Берег был уже застроен и превратился в подобие торгового пассажа. Днём там вовсю стучали молотками, что-то привинчивали – готовились к сезону. Но, лишённая тентов и стульев, навесов и прочей дребедени, эта местность напоминала стройку с торчащими повсюду прутьями арматуры. Впечатление усугублялось ночью – белый свет прожекторов заливал стройплощадки, гавкала караульная собака, а за каждым забором этой лунной поверхности росла, как трава, стальная арматура.
Как-то меня сюда привезли в детстве, а теперь я вернулся сюда в ином качестве.
Я хотел перестать быть читателем и начать фиксировать мир самостоятельно. Тогда я не завидовал этим людям, нет. И сейчас во мне не было зависти. Тогда – я не считал писателей небожителями, а просто воспринимал их как чиновников министерства литературы. Они были далеки – и от меня, и от зависти. И теперь я не завидовал, потому что никакого министерства уже нет, как и нет самой функции литературы.
Оказалось, что за это время Коктебель застроился во вполне турецком стиле – что-то в дорогих коттеджах было общее с теми турецкими виллами, которых я видел много.
Акценты времени сместились, поэтому языковые оговорки были важны. Я слышал, как кто-то из прогуливающихся до обеда, стоя за моей спиной, сказал:
– Гора святого Клементьева.
Планерское исчезло вместе с советскими планеристами, и Клементьева никто не помнил. Да и планёр, установленный на горе, давно кто-то утащил.
Я катал в ладони гальку, осыпающуюся на кожу морской солью. А на набережной, вернее, на гальке у прибоя лежала туристическая пара. Рюкзаки отброшены в сторону, мальчик спит, укрывшись штормовкой. Девочка сидит рядом, обирая что-то на нём. Издали кажется, что она ищет блох.
А известный швейцарский писатель так писал в своём автобиографическом романе:
Были похожие на леденцы, зелёные, розовые, синие стёклышки, вылизанные волной, и чёрные камешки с белой перевязью, и раковинки, распадающиеся на две створки, и кусочки глиняной посуды, ещё сохранившие цвет и глазурь: эти осколки он приносил нам для оценки, и, если на них были синие шевроны, или клеверный крап, или любые другие блестящие эмблемы, они с лёгким звоном опускались в игрушечное ведро.
Не сомневаюсь, что между этими слегка вогнутыми ивернями майолики был и такой кусочек, на котором узорный бордюр как раз продолжал, как в вырезной картинке, узор кусочка, который я нашёл в 1903 году на том же берегу, и эти два осколка продолжали узор третьего, который на том же самом Ментонском пляже моя мать нашла в 1885 году, и четвёртого, найденного её матерью сто лет тому назад, – и так далее, так что, если б можно было собрать всю эту серию глиняных осколков, сложилась бы из них целиком чаша, разбитая итальянским ребёнком бог весть где и когда, но теперь починенная при помощи этих бронзовых скрепок.
Я грел в руке камешек тридцатилетней давности и думал, как положу его в вазочку в буфете. Я держал в ладонях те же камешки, что и когда меня привезли сюда первый раз, – среди них были зелёные и белые бутылочные стёкла, мгновенно обкатанные волнами. Но теперь я думал, не сложится ли из них одна и та же волошинская или, наоборот, фадеевская бутыль.
Эта мысль, как мысль о выращивании анекдотичного английского газона, занимала меня в прогулках по набережной.
Писательская столовая была закрыта на вечный ремонт. Вензель ССП был причудливо сплетён в традициях русского модерна, но теперь не сообщал ничего. Про смерть коктебельской культуры писали много – но я имел дело не с трупом, а с прахом. Зловония здесь не было. Серый порошок, запах времени, чуть затхлости – и всё. Крымская литература – это киевский бородач, что бегал в своей хламиде по скалам, и вятский человек Гриневский. Все они превратились в туристические достопримечательности – логичная расправа времени.
Как-то я ходил столоваться в заведение под консервно-жестяной вывеской, изображавшей голову рыцаря в шлеме. Под потолком, разумеется, висело закопчённое колесо. Называлось заведение «Камелот» и подманивало группой бандуристов. Бандуристы, впрочем, играли не на бандурах, а на вполне современной технике – всё больше тяжёлый рок. Время от времени к музыкантам подходил кто-нибудь, чтобы дать им денег. Денег им давали для того, чтобы они сделали паузу минут на пятнадцать. Музыкантов, впрочем, было больше, чем посетителей. Иногда казалось, что они просто навалятся на пришедших и волей-неволей заставят их слушать – и только тогда вернут деньги. Спал под аппаратурой не то пёс, не то медведь.
– Давайте мы вам музыку включим, – говорили мне в разных городах Крыма разные бармены и барменши.
– Давайте, – говорил я, – только «Владимирский централ» не надо.
Между тем когда я ехал в маленьком автобусе, то там звучала какая-то украинская версия блатного шансона, женская и злобная. Исполнительница следовала канонам Михаила Круга и напряжённым голосом рассказывала о девчонках на этапе и молодом конвоире. И в такси я слушал банду криминальных бандуристов, они, по сравнению с теми, что играли и пели в прибрежном кафе, были детским хором. А в другом автобусе меня окунали именно во «Владимирский централ».
Но счастье было в том, что курортный сезон не начался и спрос на «Владимирский централ» отсутствовал.
Я был существом из параллельного мира, мира, параллельного литературе. Сейчас уже не стоял вопрос, можно ли жить за счёт литературы, – вопрос оказался в том, можно ли ею просто заниматься без ущерба для себя.
Так я размышлял, исследуя внутреннее пространство прибрежного ресторана, – например, за карликом-кактусом на окошке лежала кем-то припрятанная сигарета.
Музыканты наяривали, а я думал о ресторанных жителях. Вечером они сходились в кабаках, чтобы незнакомым показать шрамы, а у знакомых ещё раз попросить денег – безнадёжно и тоскливо. Трещали задираемые рубахи – шрамы оказывались не там, где их искали, а денег и вовсе ни у кого не было.
Раньше один сезон на курорте кормил год. «А самое замечательное, – говорил один музыкант, – когда лет двадцать назад попадался нам отпускник с Северов. Когда нам встречался настоящий нефтяник (а тогда в этом слове было почти то же самое, что и сейчас), то, отработав пару дней, можно было собирать инструменты и завершать сезон».
Теперь всё стало блюзом, в смысле того утверждения, что блюз – это когда хорошему человеку плохо.
Но ты-то сам всегда считаешь себя хорошим человеком, хотя люди были разные. Утихли давние бандитские войны. Если отодвинуть в сторону страх и людскую беду, это было очень странное явление. Игры с оружием молодых невоевавших людей, что были отчасти погоней за «настоящим», за «реальностью». Большие бандитские разборки недаром назывались «войнами». Со шмайсерами недавно воевали друг против друга на Карадаге частные геологи.
Bepul matn qismi tugad.