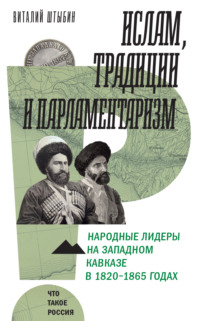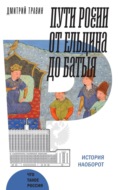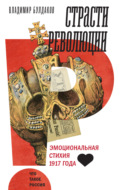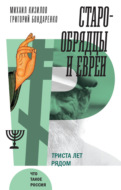Kitobni o'qish: «Ислам, традиции и парламентаризм. Народные лидеры на Северо-Западном Кавказе в 1820–1865 годах»
© В. Штыбин, 2025
© В. Чуйкова, иллюстрации, 2025
© Д. Черногаев, дизайн серии, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
* * *
Вступление
Холодным ноябрьским днем 1836 года одинокая шхуна Vixen под британским флагом, терзаемая бурными зимними водами Черного моря, внезапно появилась у входа в Суджукскую бухту. Ее тут же заметили моряки российского военного брига «Аякс», которые контролировали береговую полосу, пресекая попытки незаконной контрабанды. Появление британского судна в этих водах могло иметь лишь два объяснения: его отнесло в бухту штормом либо это была намеренная провокация. Плавание военных судов вдоль Черноморского побережья Кавказа было строго ограничено портами – Анапой (ближайшим) и Редут-Кале.
На борту Vixen оказались англичане и поляки, которые перевозили 8 пушек и 800 пудов (то есть почти 13,1 т) оружейного пороха. Такие товары обычно предназначались для черкесов, не признававших власть Российской империи. Арестованные устроили скандал, главным зачинщиком которого оказался Джеймс Станислав Белл – британский купец шотландского происхождения, помощник секретаря британского посольства в Константинополе Дэвида Уркварта, выступавший в роли добровольца в борьбе кавказских горцев за независимость от Российской империи. Арест судна входил в его планы.
Джеймс Белл родился в 1796 году в городе Данди на восточном побережье Шотландии в семье банковского служащего Уильяма Белла и домохозяйки Анны Янг, у которых, помимо Джеймса, было еще 15 детей. Родители мечтали о карьере банкира для сына, но его тяга к приключениям разрушила их планы. Джеймс оказался очень неусидчивым и беспокойным сыном, хотя и унаследовавшим коммерческую жилку отца. В конце 1820-х годов Джеймс Белл получил работу в португальском консульстве в Глазго. Гражданская война в Испании, разразившаяся в 1833 году, не оставила его равнодушным – он начал вербовку наемников из числа португальцев для помощи карлистам-консерваторам, одной из сторон конфликта. По всей видимости, это стало причиной отзыва его с должности. Тогда Джеймс Белл отправился по торговым делам в Константинополь, где вскоре встретил земляка, шотландца Дэвида Уркварта, увлекшего его идеями поддержки черкесских обществ Северо-Западного Кавказа в борьбе против Российской империи.
Белл хорошо знал настроения в британских политических кругах по отношению к чрезмерной активности Российской империи в Черном море, которая 4 марта 1832 года ввела ограничения в торговле на Черноморском берегу Кавказа для иностранных судов. Британия считала такие действия нарушением прав свободной торговли, что отвечало собственным представлениям Джеймса на этот счет.
Организованная им совместно с Дэвидом Урквартом миссия Vixen стала удачно спланированной провокацией. Сразу после ареста команды в британском парламенте поднялась буря. Консерваторы требовали от правительства открытого обсуждения прав России на Черкесию, то есть территории между рекой Кубань и Черноморским побережьем Кавказа, населенные автохтонным народом – черкесами (адыгами). Другие лидеры британского парламента выступали с враждебными выпадами против Российской империи. В ответ император Николай I привел армию и флот в состояние повышенной боевой готовности.

Британская и Российская империи оказались на волоске от большой войны.
Однако к апрелю 1837 года волнения улеглись. Британским властям не удалось заручиться поддержкой союзников на сухопутном фронте, и они охладили военную риторику. Накопленные сторонами обиды вылились в конфликт позже, когда политическая ситуация позволила Британии найти союзников и начать войну, получившую название Крымской или Восточной.
Как только отношения империй нормализовались, российские власти немедленно выслали представившегося британским дипломатическим сотрудником Джеймса Белла и большую часть его команды обратно в Османскую империю, откуда он прибыл. Шхуна Vixen была конфискована и включена в Черноморский флот России под именем «Суджук-Кале»; товары со шхуны были проданы с аукциона. Об этом Джеймс Белл с ненавистью вспоминал позднее в мемуарах, сюжет которых получил развитие в 1837 году, когда он вновь вернулся в Черкесию. С несколькими британскими компаньонами он тайно пробрался к северным берегам Черного моря и далее в Кавказские горы, чтобы потратить несколько лет жизни в попытках объединить разрозненные черкесские общества.
С 1837 года началась новая веха Кавказской войны на западном ее фронте – в Черкесии. Внимание всего мира было приковано к этому региону больше, чем к Восточному Кавказу, в силу крепких связей черкесских обществ с внешним миром и особой его значимости в геополитическом противостоянии двух империй. Сегодня этот эпизод Кавказской войны незаслуженно забыт или недооценен. Он находится в тени легендарного эпизода Кавказской войны, относящегося к конфликту Российской империи с имамом Шамилем и его последователями. На Восточном Кавказе империи противостоял единый лидер со своей протогосударственной системой и идеологией, достойный враг в романтизированном обществе XIX века. На Западном Кавказе все было иначе. Долгое время Российская империя боролась здесь с множеством этнических групп, имевших своих лидеров. Они редко объединялись, действовали по ситуации, часто при наличии сразу нескольких конкурирующих идей, что не способствовало заключению долговременных союзов. Разрозненные черкесские вольные общества долгое время не принимали концепции единого лидера и единой системы управления. Более того, между разными обществами существовал перманентный конфликт, связанный с «аристократическим» или «демократическим» устройством их социальной жизни. Российской империи все эти общества представлялись неуправляемой «массой племен», с которыми невозможно о чем-либо договориться на постоянной основе. История Кавказской войны на западном фронте во многом связана с попытками Российской империи взаимодействовать с черкесскими общинами с помощью кнута и пряника, в зависимости от предпочтений императоров и местных военных чиновников.
1837 год привнес в эту схему региональных отношений новые идеи. Формальная передача черкесских земель от Османской империи Российской по условиям Адрианопольского мирного договора 1829 года привела к повышенному вниманию к черкесским обществам со стороны европейских держав и к нарастающему сопротивлению на Восточном Кавказе. В свою очередь, Российская империя стремилась всячески оградить регион от внешнего влияния, что привело к более жесткому подходу в отношении свободных черкесских обществ. В этих условиях впервые проявили себя черкесские политические лидеры, которые получали поддержку лишь в отдельных черкесских обществах, однако с переменным успехом старались их объединить, опираясь на собственную идеологию и используя внешнюю поддержку либо отторгая ее. Властям Российской империи приходилось считаться с ними как с представителями всего народа, стравливая их между собой либо пытаясь переманить на свою сторону. Маховик событий, запущенный появлением шхуны Vixen, заработал, и последние десятилетия Кавказской войны на Западном Кавказе показали, что лидеры способны появляться даже в самых сложно устроенных обществах. Биографии этих лидеров были хорошо известны до 1917 года, поскольку составляют часть большого нарратива истории покорения Российской империей Кавказа с его «достойными противниками», однако постепенно оказались вытеснены яркой и драматической историей имама Шамиля. Отчасти это объясняется тем, что деятельность лидеров Северо-Западного Кавказа была неотъемлемо связана с историей имамата Шамиля либо, скорее, с традициями и обычаями местных народов.
В этой книге мы пытаемся восстановить справедливость и вновь пролить свет на биографии черкесских лидеров Северо-Западного Кавказа эпохи 1830–1860-х годов. Но прежде нам следует вкратце напомнить предысторию вопроса и разобраться, как и почему происходил процесс продвижения границ Российской империи на Западном Кавказе1, рассмотреть его этническое и социальное устройство в XIX веке и выяснить причины, которые привели к конфликту Российской империи с коренными жителями региона. Для этого отмотаем время назад и ненадолго заглянем в прошлое региона, за сто лет до появления шхуны Vixen в Цемесской (Суджукской) бухте.
Глава 1. Хроники южного фронтира
Борьба двух империй
С середины XVIII века Российская империя упорно расширяла свои границы на юг, к Кавказским горам. Еще при Иване Грозном на Северо-Восточном Кавказе появилось первое российское укрепление Терки, которое позже неоднократно сносили, восстанавливали и переносили из-за требований османских властей или из-за татарских набегов. Прежде Московское царство не имело сил и возможностей надежно закрепиться в регионе, где Османская и Персидская империи боролись друг с другом за влияние, в том числе руками лояльных кавказских обществ. Москва старалась выстроить свою систему торговых отношений в регионе, являвшемся оживленным торговым перекрестком. Основное внимание московских царей было направлено на Восточный Кавказ как естественное продолжение пути Волга – Каспий – страны Ближнего Востока и Южной Азии. Северо-Западный Кавказ оставался недостижим для России, поскольку находился в сфере влияния Османской империи и Крымского ханства – двух сильнейших союзников региона и ее исторических противников. Крымские ханы при поддержке османских сюзеренов контролировали обширные территории Северного Кавказа и Северного Причерноморья, где жили или кочевали подвластные им ногайские племена и черкесские (адыгские) князья2. Последние платили им дань, но часто восставали против ханской власти. Пиком повстанческого движения народов Северного Кавказа против политической власти Крымского ханства стала Канжальская битва 1709 года, окончившаяся поражением войск хана Каплан-Гирея и его региональных союзников, нанесенным восточными черкесами (кабардинцами) и их союзниками. На стороне Крымского ханства в битве участвовала часть лояльных ему западных черкесских обществ, а на кабардинской стороне – часть лояльных местным князьям тюркских обществ. К слову, тюркские соседи кабардинцев и черкесов – карачаево-балкарцы сегодня упорно отрицают сам факт этой битвы. В 1724 году власть крымских ханов была утрачена в горных районах Западной Черкесии после разгрома их отрядов шапсугскими обществами, впервые упомянутыми тогда в исторических источниках. С тех пор и в Черкесии, и в Кабарде власть крымских ханов и османского султана оставалась номинальной, базирующейся на торговом обмене и признании духовного лидерства султана над мусульманами из числа обращенных в ислам обществ, которых в горах до второй четверти XIX века было меньшинство. Не стоит забывать, что сама Москва вплоть до 1700 года выплачивала дань Крымскому ханству и периодически испытывала на себе силу и мощь этого полукочевого государства во время крымских набегов на московские земли.
Петровские реформы значительно изменили облик Российского государства. Немаловажную роль в этом процессе сыграла Российско-османская война3 1686–1700 годов, крайне неудачная для Петра I. Это поражение рассматривают в качестве одного из побудительных мотивов для переформатирования Московского царства в Российскую империю по образцу европейских колониальных держав. Адаптированная европейская логика колонизации повлекла за собой изменение глобальных целей нового Российского государства, все внимание которого сместилось на юг. Вместе с ней новый импульс получила идея о жизненной необходимости получения доступа к Черному морю, выход к которому с последующим «восстановлением Византии» стали idée fixe российских правителей XVIII–XIX веков. Ко времени Петра I дефицитные шкурки соболей, белок и песцов из Сибири, столетиями питавшие московскую казну, перестали приносить ощутимую прибыль. Основным ресурсом становились пшеница и экзотические товары южных стран, такие как шелк, хлопок и чай. Так началась экспансия Российского государства, а с 1721 года империи, на юг, к Кавказским горам, которая к концу XVIII века приняла форму военной колонизации.
Российско-османские и Российско-персидские4 войны XVIII века приводили ко все большему расширению границы страны на юге и укрепляли авторитет Российской империи. Первую крупную попытку значительного расширения границ Российской империи на Кавказе предпринял в последние годы жизни Петр I. В 1723 году по результатам Персидского похода Петра I был заключен Петербургский мирный договор. Россия получила во владение обширные территории по западным и южным берегам Каспийского моря, к Российской империи отошли города Дербент, Баку и Решт, иранские провинции Ширван, Гилян, Мазендеран и Астрабад. Россия обязалась защищать Иран от Османской империи и афганских племен. Этот договор не был ратифицирован новым иранским шахом Тахмаспом II, и в том же году османы вторглись в иранские владения с запада. Через год статьи Петербургского договора включили в новый Константинопольский договор 1724 года, который признал за Российской империей захваченные по Каспию земли, а за Османской – весь Южный Кавказ и земли Северо-Западного Ирана. Персидский шах этот договор не признал, но сил и возможностей возражать у него в тот момент не было.
Спустя 10 лет, в 1735 году, началась новая Российско-османская война, вызванная спорами держав за наследство польского короля Августа II (носившего также титулы саксонского курфюрста и Великого князя литовского), а также желанием османского двора укрепить свою власть на Кавказе. Султан Ахмед III на фоне успешных войн в Европе и конфликта с новым шахом Ирана объявил себя покровителем всех мусульман Кавказа. К тому времени новый правитель Ирана Надир-хан значительно усилился и на фоне признаков будущей войны с султаном потребовал от России вернуть захваченные ранее земли. Участившиеся масштабные набеги крымского вассала Османской империи на Северном Кавказе вплоть до Дербента, а также в Северном Причерноморье свидетельствовали о нарушении Константинопольского договора 1724 года. У Санкт-Петербурга не было возможности вести войну на два фронта, и императорский двор пошел на уступки. В мае 1735 года захваченные Петром I прикаспийские земли Кавказа и Ирана отошли обратно к шаху. Новая граница Российской империи в Дагестане прошла по устью реки Терек, куда были перенесены военные гарнизоны, с постройкой новой административной столицы при крепости Кизляр. Многие жители Дагестана бежали в горы, откуда долгие годы вели войну против иранских властей, как делали их предки в течение столетий. В обмен на возвращенные земли российская сторона потребовала от иранского шаха союзнического договора и обязательств не передавать другим странам отданные по договору территории. В том же году подписанный сторонами Гянджинский мирный договор шах Надир-Хан нарушил подписанием сепаратного мира с султаном.
Основанием для новой большой войны в регионе стал политический переворот в Османской империи, в результате которого к власти пришел Махмуд I. Российская дипломатическая служба сообщала, что война неизбежна и временный политический хаос в Константинополе – это лучший повод ударить первыми. Российские власти потребовали от султана создания совместной комиссии для решения возникших спорных вопросов в духе Константинопольского договора. Игнорирование требований стало поводом для начала конфликта.
Российско-османская война длилась с 1735 по 1739 год. Главный театр военных действий находился в Восточной Европе и Крыму, тогда как на Северном Кавказе российские войска старались сдерживать османское наступление активными контратаками вглубь черкесских территорий при поддержке казаков и лояльных калмыцких ханов. Самым крупным послевоенным приобретением Российской империи в этом регионе был Азов – ключевой торговый центр на берегу Азовского моря, борьба за который с переменным успехом шла в течение полувека. Османские власти не решались ввязываться в масштабные военные действия на Кавказе, поскольку опасались внешнего удара с моря от союзника России в этой войне – Британской империи. Видя слабость Константинополя, к активным военным действиям перешел другой, сухопутный союзник России – Австрия, которая вынудила Османского султана Махмуда начать переговоры на условиях договоров петровских времен. Пока шли переговоры, Австрия решила воспользоваться моментом и отомстить османам за территориальные потери прошлых лет открытием нового фронта на Балканах. После этого переговоры сорвались, и военные действия приняли более масштабный характер. В 1737 году ситуация на Балканском фронте войны осложнилась, и императрица Анна Иоановна решилась открыть еще один фронт, чтобы отвлечь османские войска.
В марте того же года третьим по счету лидером Калмыцкого ханства был объявлен лояльный российским властям Дондук-Омбо.
Дондук-Омбо (Дондг Омб) был третьим калмыцким ханом, родоначальником российского дворянского рода Дондуковых. С 1731 по 1737 год он находился в подданстве османского султана на Кубани. В 1737 году, став ханом, Дондук-Омбо принял российское подданство. Правил он жесткой рукой, но в 1741 году скончался, и его наследники проиграли борьбу за ханский престол. Вдова хана Рандула Омбо была вынуждена в 1743 году бежать в Санкт-Петербург, где получила крещение и новое имя Вера Дондукова.
В ту эпоху калмыки представляли собой грозную силу на Северном Кавказе и в приволжских степях, и эту силу империя активно использовала для борьбы с нелояльными элитами Дагестана, Чечни и Кабарды. В 1737 году кубанский сераскир5 Селим-Гирей, управлявший кубанскими ногайцами, подданными крымского хана, которые кочевали в степях к северу от реки Кубань, совершил грабительский налет на поселения донских казаков, разорив их и уведя сотни пленников. Через короткое время он решил повторить набег, предполагая, что большая часть защитников либо погибли, либо находятся на войне. Императрица Анна Иоанновна предложила новому хану Дондук-Омбо с большим войском и в союзе с донскими казаками совершить ответный рейд на Кубань, во владения давнего калмыцкого противника Малой Ногайской Орды, находившейся в прямом подчинении Крымского ханства. В ноябре 1737 года совместный отряд осадил крупный османский форт Копыл (ныне на его месте находится Славянск-на-Кубани), где заседал кубанский сераскир. Форт был уничтожен вместе с защитниками. Калмыцко-казацкие отряды прошлись огнем и мечом по окрестностям вплоть до Азовского моря и попутно сожгли городок казаков-некрасовцев Хан-Тюбе на Каракубанском острове. Некрасовцы, потомки донских и хоперских казаков, в 1708 году ушли с Дона после подавления Булавинского восстания и жили среди татар и черкесских обществ к югу от реки Кубань во владениях Крымского ханства и формально ему подчинялись. Копыл остался в руинах, в 1747 году османские власти его восстановили на новом месте. Так появились названия Эски-Копыл (тур. Eski Kopil – Старый Копыл) и Йени-Копыл (тур. Yeni Kopil – Новый Копыл), которые часто путают.
Второй этап войны пришелся на 1739 год, когда 2-я отдельная российская армия должна была наступать через Крым и Кубань. К этому времени многие союзники Российской империи вышли из войны, а ее армия несла огромные потери из-за болезней и дезертирства. Поэтому в конце сентября сторонами был заключен Белградский мирный договор, согласно которому за Российской империей была оставлена только Азовская крепость с обязательством уничтожить ее укрепления. Стороны, включая союзников России, обязали российские власти отказаться от использования своего флота в Черном море и для торговли пользоваться турецкими судами. Но главное заключалось в создании, согласно договору, первого «буферного» государства на Северном Кавказе – Кабарды. В концепции развития Российской империи буферным считалось такое государство, которое служит «Богом данной, нейтральной территорией» между Россией и другими империями, необходимой для ограждения от внешних вторжений и подготовки к их отражению в разумный срок.
Разрозненные земли Большой и Малой Кабарды в XVIII веке простирались, помимо современной территории Кабардино-Балкарии, также на равнинные земли современных Северной Осетии, Ингушетии, Чечни и Ставропольского края. Все они были признаны «вольными землями Кабарды», а Османская и Российская империи обязывались не вмешиваться в дела Кабарды и придерживаться нейтралитета. Это не мешало российским властям проводить политику «мягкой силы», оказывая религиозное и культурное влияние на местное население. Например, в 1745 году была создана Осетинская духовная комиссия, целью которой было «восстановление» христианства на Кавказе на основании имевшихся обрывочных средневековых данных и исследований церковных руин. С переменным успехом она начала работу по обращению в православие осетин, ингушей и кабардинцев через мирные уговоры, подкуп деньгами и привилегиями, а также постройку школ.
Проблема установления мирных отношений на новых границах заключалась в том, что статус великого князя в Кабарде был весьма условным. Местная аристократия конкурировала за этот статус.
Вспомним хотя бы историю Темрюка Идарова, кабардинского князя, который вместе со своей семьей в 1561 году присягнул на верность Ивану Грозному и смог значительно укрепить собственный статус в борьбе за место главного князя Кабарды благодаря браку Ивана Грозного с его дочерью Гуашеней (Марией Темрюковной). К Малой Кабарде относились современные равнинные земли республик Северная Осетия – Алания, Ингушетия и Чечня. Позднее этническая картина региона кардинально изменилась, когда в конце XVIII века из-за эпидемий чумы и оспы земли Малой Кабарды опустели и в начале XIX века российская военная администрация на Северном Кавказе способствовала переселению туда лояльных империи ингушей, осетин и чеченцев.
В XVIII веке в своей борьбе местная аристократия активно использовала поддержку извне, опираясь то на российские, то на крымско-османские власти. Княжеская и дворянская верхушка преследовала не только своих внутренних политических противников, но и «новых» христиан, крещенных Осетинской миссией. Извечная конкуренция кабардинской аристократии продолжилась и в свободной Кабарде, что к 1760-м годам привело к череде дипломатических скандалов, в которых российская императрица и османский султан обвиняли друг друга в нарушении принципов нейтралитета Кабарды.
В 1763 году кавказские военные власти по указанию Екатерины II построили в одном из ключевых регионов Кабарды, на путях сезонной миграции скота, укрепленный форт Моздок. Ныне это районный центр Республики Северная Осетия – Алания. Название «Моздок» происходит от имени находившегося здесь лесного массива Мэздэгъу, что переводится с черкесского языка как «темный (глухой) лес».
Одно из важнейших оснований для постройки форта заключалось в необходимости защиты новых христианских подданных Российской империи, в число которых входил князь Малой Кабарды Кургоко Канчокин, со своими подданными переехавший под защиту новой крепости.
Кургоко Канчокович Канчокин (1708–1766) был представителем княжеской кабардинской фамилии Джиляхстановых, полковником российской армии. Из-за вражды с крупными родами Большой Кабарды в 1750 году он переселился с князьями Гиреем Маматовым и Исламом Хановым поближе к российской границе и выразил желание принять российское подданство. В 1751 году он совместно с князем Казием участвовал в походе полуторатысячного кабардинского отряда в Грузию (княжество Картли) для поддержки грузинского царя Ираклия II в его борьбе с татарскими ханами Азербайджана. Из-за постоянных притеснений со стороны князей Большой Кабарды в августе 1759 года он принял в Кизляре православие под именем Андрей Иванович Канчокин-Черкасский. В 1760-м встречался в Санкт-Петербурге с императрицей Елизаветой Петровной, у которой испросил разрешения поселиться на российской границе. Канчокин стал свидетелем государственного переворота, в результате которого к власти пришла императрица Екатерина II, затем фактически стал сооснователем форта в Моздоке, где и умер в 1766 году.
Кабардинские крепостные крестьяне массово бежали от своих господ в крепость Моздок, где принимали крещение, часто за деньги и льготы. Кабардинские князья попытались этому воспротивиться, отправляли делегации к российским властям, угрожали уничтожением крепости, обращались к османскому султану и крымскому хану. Но это ни к чему не привело. Российские имперские власти игнорировали требования как местных князей, так и османского султана. Действовавший тогда принцип управления запрещал возвращать мусульманским владельцам крестьян, принявших православие. В региональной историографии принято считать, что именно из-за этих событий, с 17 (28) июля 1763 года – времени окончания постройки крепости в Моздоке – началась 101-летняя Кавказская война.
Меры в отношении кабардинских крепостных, принимаемые российскими властями в Моздоке, привели к тому, что многие представители кабардинских элит стали уходить в горы, подальше от российских границ, чтобы усложнить крестьянам возможность для побега. Они создавали различные коалиции, в том числе с черкесскими соотечественниками на Западном Кавказе, властями Османской империи и Крымского ханства. В ответ в Кабарде начались вооруженные крестьянские восстания, поддержанные российской армией.
К 1768 году создались внешние условия, во многом повторявшие ситуацию 1735 года, когда из-за кризиса в Речи Посполитой европейские империи начали очередную войну. В этот раз начавшаяся череда восстаний в Греции, Египте и Сирии значительно растянула силы османской армии. К тому же российская армия сильно продвинулась в техническом и управленческом смысле, особенно в морском деле. Поскольку нейтральный статус Кабарды более не сдерживал стороны от вмешательства в ее дела, российские войска подавляли восстания кабардинских князей и уорков (черкесских дворян) военными методами.
По результатам новой Российско-османской войны в 1774 году был подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор, который позволил российским правителям реализовать давнюю мечту о собственном флоте в южных морях. Границы Российской империи продвинулись на юг, к Керчи, Ейску и Азову. Окончательно потеряла независимость вотчина восточных черкесов – Кабарда, которую стороны признали владениями Российской империи. В свою очередь, Крымское ханство вместе с обширными кочевьями Малой Ногайской Орды между Кубанью и Доном постигла судьба Кабарды 1735 года – отныне оно тоже считалось «буферным» государством. Правителем Крымского ханства был избран лояльный российским властям хан Шахин-Гирей, предпочитавший большую часть времени проводить в Ейске, подальше от недовольных подданных.
Шахин-Гирей (1745–1787) родился в Адрианополе. В юные годы он путешествовал по Европе, а в 1768 году вернулся домой и поступил на службу сераскиром Буджакской ногайской орды. В 1770–1771 годах был сераскиром Едисанской орды, в 1774–1776 – Кубанской. После получения Крымским ханством независимого статуса и утверждения ханом Селима II Герая, он был калги – заместителем хана. Шахин-Гирей был сторонником Российской империи. После свержения Селима II был поставлен российскими властями во главе кубанских ногайцев, благодаря которым в 1777 году захватил власть в Крымском ханстве. После начала реформ по российскому образцу Шахин-Гирей настроил против себя элиту и даже часть семьи. В 1780 году фактически утратил власть над кубанскими ногайцами и сохранял ее лишь при поддержке российских войск. В 1782 году произошло массовое восстание, в результате которого он был свергнут и бежал в российский форт Керчь. Восстание было подавлено российской армией, после чего в 1783 году Шахин-Гирей отрекся от престола, а Крымское ханство было ликвидировано и включено в состав Российской империи. По требованию властей Шахин-Гирей должен был выехать в почетную ссылку в центральные губернии России с получением пенсии. После долгих колебаний он получил разрешение жить в Таганроге, потом в Тамани. В 1784–1787 годах жил в Воронеже, затем еще год в Калуге. В 1787 году Шахин-Гирей эмигрировал в Османскую империю, в том же году был сослан султаном Абдул-Хамидом I на остров Родос и казнен.
Как мы уже говорили, власть Шахин-Гирея в Крымском ханстве была формальной, поскольку в обществе по-прежнему пользовался влиянием османский султан, за которым Санкт-Петербург оставил право считаться духовным лидером мусульман. Назначение ханом Шахин-Гирея в обход правил его соперник Батыр-Гирей воспринял как личную обиду. В 1777 году он собрал в Тамани черкесских старшин и некрасовских казаков, которые выбрали депутатов для отправки в Константинополь – договариваться о переселении в османские владения и о помощи в борьбе с Шахин-Гиреем. Отрядам Батыр-Гирея противостояли кубанские ногайцы Едисанской орды, которыми в то время управлял поставленный Шахин-Гиреем абазинский князь Лоов-Султан.
Абазины – этническая группа, близкая в культурном плане к абхазам. Их языки входят в общую изолированную группу адыго-абхазских языков. Черкесы с одной стороны и абазины с абхазами с другой состоят в дальнем генетическом и культурном родстве, подобно восточным и западным славянам. С социокультурной точки зрения практически составляют единое кавказское культурное поле с народами Северного и Центрального Кавказа, с общими мифологией, традициями, бытом, мировоззрением. До первых десятилетий XIX века абазины считались частью группы народов горной и прибрежной полосы Северо-Западного Кавказа, объединенных термином «Абаза», определенным эгалитарной структурой их обществ и, возможно, сохранившимися признаками бытования «народного христианства». Для обозначения абазинских обществ в то время использовались их локальные названия, связанные с именами сильнейших фамилий, – Баракай, Баг, Башильбай и т. д., объединенных общим именем Алтыкесек («Шестидольные», то есть разделенные на шесть основных обществ). В XIX веке абазинские общества закрепили за собой название Абаза в этническом смысле с прибавкой старого локального названия. Абазинский язык делится на две ветви – диалект тапанта на северных склонах гор в районах современных Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края и диалект ашхъаруа на южных склонах в районе современного Адлерского микрорайона города Сочи и западных районов Абхазии. До XIX века абазины находились в подчинении кабардинских князей, как и другие горные народы вокруг Кабарды, такие как карачаево-балкарцы, осетины, ингуши и, частично, чеченцы.