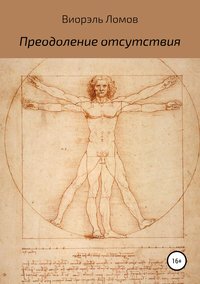Kitobni o'qish: «Преодоление отсутствия»
Я получаю удовольствие, когда пишу то, что, как я подозреваю, не будет иметь никакого значения. (Уильям Петти).
Пролог
Со стороны автора было бы опрометчиво назвать свой роман «В мире мудрых мыслей», поэтому он назвал его именем собственным: «Мурлов». Во всяком случае, именно Мурлов напомнил ему тот нереальный портовый город, где встретились различные архитектурные стили и разные народы. Город, открытый всем ветрам, стоящий на море, скалах, земле и парящий в воздухе.
Глава 1. Из которой непонятно, что Автор хочет сказать
В некотором царстве, в некотором государстве, в каком году – не знаю, в каком краю – не скажу, недалеко от зоопарка был центральный городской парк – не очень большой, но и не очень маленький. От него до Японии было так же далеко, как до Нидерландов, поэтому в нем редко можно было увидеть гуляющего японца или голландца, но всегда было много наших озабоченных соотечественников. Впрочем, видели в парке Акутагаву и Ван Гога. А вот Гоголя не видели. Хотя гоголем ходили многие.
Кстати, если в центр парка, скажем, в бассейнчик с каменным медвежонком, воткнуть циркуль и провести огромный-преогромный круг, так чтобы захватить им и белый ледовитый океан, и красные огненные пустыни, то за этим кругом окажутся и все мировые религии, и все процветающие и умершие цивилизации, а внутри круга, точно околдованные кем, будут летать над лесами, над долами, да над чистыми полями серые стаи перелетных птиц, да неприкаянно носиться белые бессмертные души умерших и тех, кто собрался умереть.
***
Ах, этот серо-белый цвет – цвет зимы, цвет большинства воспоминаний. На дворе декабрь ненастный, час угрюмый, час раздумий… Так бесприютно – если б только знали! Разрешите постучать в дверь вашего дома. Не пугайтесь. Честь имею: Автор. Ваш гость. Гость – и больше ничего. Продолжаю.
***
Когда дул восточный ветер, от зоопарка несло вонью, когда дул западный – пахло карамелью от кондитерской фабрики, а когда зимой дул северный или южный – возле обледенелого медвежонка любили останавливаться породистые кобели и делать очередную золотую запись в ледовой книге, которую с неподдельным интересом обнюхивали породистые суки. Но независимо от направления ветра каждое утро на центральной аллее парка всех прохожих приветствовала старая Ворона. Говорят, она принадлежала семейству того Ворона, что обнаружил сушу во время потопа, а потом навеки взгромоздился на бюсте Паллады. Ворона была неизмеримо выше кобелей и сук и обычно сидела не на бюсте (хотя в парке тоже была дева, не просто с бюстом, а в полный рост и с веслом), а на суку и кричала так, будто рожала. Собаки изредка побрехивали на нее и взвизгивали от бессильного негодования.
Ворона не покидала парк много лет; все давно свыклись с нею, и бабушки уже в сотый раз рассказывали своим внукам о ней разные небылицы. О том, например, как в годы нашего золотого бума, когда цыгане стали ставить золотые коронки своим лошадям, она летала своим ходом в Индию (штат Мадрас) и там стащила в короткий срок у трехсот состоятельных граждан, почему-то только у кшатриев, золотые очковые оправы. Мадрасская полиция тогда совершенно сбилась с ног в поисках вора, но так его и не поймала. Говорят, эти оправы Ворона спрятала в одном из тайников парка. Любители золотых оправ долго искали это место, но, разумеется, не нашли. Подключали к поискам даже мэра, под предлогом наведения порядка перед Днем города. Согласно распоряжению мэра в парке пересчитали всех ворон, но и это не помогло. Что Вороне мэр, сэр? Кар, пустой звук. То же, что и пэр. (Что ни говори, Ворон все-таки священная птица самого Аполлона). Ворона же благоразумно очки не надевала. Бабушкины чада бросали ей булки, пряники, другие объедки – и совершенно напрасно, так как под скамейками и на газонах этого добра вполне хватало, даже для парковских алкашей и приблудных бомжей, брезгающих отдельными кусками. Парк уже лет тридцать именовали в народе «Вороньим парком», хотя за это время трижды менялось его официальное название, плохо удерживаемое памятью.
Центральная аллея, пересекавшая парк по диагонали, делила его на два равнобедренных треугольника, каждый из которых жил своей внутренней геометрической жизнью. В одном треугольнике преобладали прямые и острые углы аллеек, влюбленных подростков, березок и елей, в другом – круги и эллипсы клумб и фонтанов, детских колясок и беременных женщин. В одном – тискались так, что не хватало воздуху, и, за недостатком слов, смеялись, в другом – дышали этим воздухом и этими словами беседовали. Центральная аллея была своего рода мостом между рестораном «Центральный» и Воложилинским историческим музеем. Возле черного входа в ресторан, в полуподвальном помещении располагался первый в городе кооперативный туалет «Южный пассат», над которым, как эпиграф к роману, красовалась надпись: «Ничто так не вызывает позыва к мочеиспусканию, как вечная мысль о нем» (П.Дюбуа). А не пора ли и мне собирать вечные мысли?
Пока я шагал по аллее, Ворона сопровождала меня, перелетала с ветки на ветку и всякий раз орала и долбила сук, на котором сидела. Это продолжалось до тех пор, пока я не подошел к музею, который занимал оба этажа огромного старинного двухэтажного дома, даже и не дома и не дворца, а странного сооружения прошлого века. (Говорят, строителей то ли утопили, то ли пригласили в Париж на ярмарку, во всяком случае, с тех пор их в городе больше не видели).
В конце аллеи было несколько «поющих» деревьев. Они пели сто раз в году, в хорошую погоду, когда на них слетались птицы со всей округи: воробьи, синицы, скворцы, сороки, зяблики, малиновки, снегири, трясогузки и даже дятлы. Птицы полюбили почему-то именно эти деревья и собирались здесь на свои спевки. Дирижировала птичьим сводным хором, естественно, Ворона.
Под деревьями стояли скамейки, на которые никто не садился и с которых два известных знахаря темными осенними ночами отдирали окаменевший и почерневший птичий помет, нарезали его кубиками и запаивали в полиэтиленовые пакетики с надписью «Мумие». В каждом пакетике лежала инструкция, в которой сообщался номер лицензии, выданной самим Минздравом, название горной расщелины, где добыт этот бесценный минеральный продукт, и порядок его применения, как для общего оздоровления, так и при переломе костей.
На одной из этих скамеек (на той, у которой оторвано половина реек) сидели в обнимку два бомжа противоположного пола и пели песню со сложным мотивом. Очень выразительно звучало из ее уст: «Ты мой король! Ты мой король!», а из его: «А ты моя королева!», с чем она соглашалась и подтверждала: «А я твоя королева!» При этом оба разом вскидывали головы, глядели друг на друга и загадочно улыбались. Загадочность заключалась в том, что неясно было – улыбка это или что-то другое. На меня они не обратили внимания. Раз пели, значит, по-своему были счастливы. Но из двух этих промелькнувших счастливых лиц запоминалось одно. Не его, а ее. Его лицо одинаково хорошо подходило и бомжу, и разведчику, и кассиру, и заместителю любого министра – то есть любому, кому по роду деятельности не требовалось лица; а вот она была колоритная особа: у нее под левым глазом сидел многолетний синяк, пустивший корни по всему лицу, лицо можно было бы назвать матовым, если бы оно было таковым, а на голове она носила красную фетровую шляпу с загнутыми кверху полями, из-за которой ее называли «Красной шапочкой», а за правым ухом над шеей был завиток, как у Анны Карениной.
На последнем перед музеем дереве Ворона послала мне последние проклятия и – усадив вместо себя двух стрекочущих сорок и какую-то молчаливую, как судьба, птицу, – улетела.
И последнее стало первым. На свою беду дерево родилось тополем, а тополь, когда он вырос, оказался крайне вредным для экологии растением. Оказывается, серые ручьи старого асфальта, покрытого рябью трещин, которые свободно текли меж зеленых июньских берегов и к которым южный сухой ветер прибивал белую пену ажурного тополиного пуха, таили в себе угрозу здоровью человека несравненно большую, чем, например, черные омуты беспробудного пьянства или сверкающие водопады беспорядочных половых связей, либо (еще пример) тучи выхлопных газов или кучи окорочков, которые по традиции еще называли куриными. Тополя когда-то по чьему-то (как оказалось сейчас, сырому) решению высадили по всему городу, так как надо было срочно решать проблему его озеленения и, заодно, проблему осушения заболоченных почв; и через несколько десятков лет благодарные тополя завалили город повсюду проникающим пухом. Несмотря на это, люди привыкли к тополям и полюбили этих неприхотливых гигантов, дающих прекрасную тень и собирающих на клейкую свою листву обильную уличную пыль. Новый главный озеленитель города начал свою деятельность как искушенный политик: вырезал те деревья, которые нравились людям, и насадил вместо них те, которые нравились ему. Этот громадный тополь перед музеем и стал для него, если можно так выразиться, первым пробным камнем в эскалации «новой» волны озеленения.
Поздней черно-белой осенью бывшие заповедные уголки старого парка стали напоминать место побоища, на котором валялись обезглавленные змеи и драконы. Трупы их были присыпаны землей, и из земли во все стороны уродливо торчали серые шеи пней. Будто придурковатый Иван-царевич лихо прошелся по чужим садам и вострой шашкой порубал головы гадам, как капусту, и не оставил для сказки ни одного мало-мальски завалящего дракончика.
Старый тополь возле музея должен был помнить больше, чем помнили все жители Воложилина вместе взятые. А сейчас он лежал, четвертованный, как вор и злодей, и без всякой памяти, и люди с легкой досадой отмечали про себя – зря спилили красавца, изнутри совсем здоровый был, жаль… И вовсе не вор он был, и никакой не злодей. Ну а теперь, не памятник же ему ставить?
Кстати, изменение отношения к тополям было всего лишь маленькой частью глобальных сдвигов в природе. Так, за последние годы зимой на улице стало намного теплее, а в жилых домах заметно похолодало, что является, кстати, всего лишь следствием всеобщего принципа Ла Шателье-Брауна. Трагедийные терзания четы Карениных и Вронского разделились, как один широкий сказочный путь на три гиблых тропинки, на три взаимоисключающие проблемы: любовь, секс и брак. Любовь, по новым понятиям, стала путем к сексу и от секса; секс – краткой стоянкой в пути, предназначенной для отправления естественных потребностей организма; а брак – всем, что оставалось от любви и секса, то есть отсутствием всякого пути и накапливанием с годами до критического состояния неестественных потребностей души и тела. Тело стало накапливать пороки, а душа грехи, и людям стало жить заметно интересней. Уже никто не говорил никому: «У тебя, милок, это вышло по-скотски!» Все говорили друг другу: «У тебя, друг, все путем, по-людски!» Ну, а эпическая мощь Загадки, которую несли в себе Сфинга или Сирены, разгадка которой была для них равносильна самоуничтожению, смерти, сегодня разыгрывается телевизионным фарсом «что, где, когда», в котором за разгадку кидают кость…
Когда я, отсчитав восемь гранитных ступеней, заходил в дверь служебного входа и увидел свое отражение в стекле, я понял причину Вороньего крика. «Коричневая ты чума, – подумал я вслед за Вороной. – Жадный, скупой и грязный».
Глава 2. Кьеккенмединги в сторожке из ДСП
– Директора еще нет. Он в управлении культуры. У Достоевского. Нет, это не тот Достоевский. Впрочем, этот тоже знаменит – в своей области, откуда его в прошлом году направили к нам. Обменяли на бывшего нашего. Как двух военнопленных. Директор, правда, лентяй, как все наши работяги, но крутой. Как кипяток, – Сторож отхлебнул чай из стакана. – С ним надо осторожно – ошпарит.
У меня, признаться, в голове стала образовываться некоторая сумятица. Я уже хотел уточнить: директор, может, и писает кипятком? Но, еще раз взглянув Сторожу в глаза, понял, что эту тему он развивать не будет.
Обстоятельность объяснений Сторожа была скорее всего следствием профессиональной скуки и вынужденным, хотя и добровольным (как у всякого пенсионера) заточением в каморке из ДСП в такое ясное погожее утро.
Впрочем, перед ним лежала раскрытая книга в дорогом старинном переплете. При одном только взгляде на книгу приходила мысль, что книга интересна. Трудно было объяснить, почему приходила такая мысль – мысли ведь приходят сами по себе, как кошки, и, как кошки, сами по себе уходят. В книге было что-то обстоятельное, как бык на вертеле, и невесомое одновременно, как аура. Над ней, клянусь, была аура, как над чистым человеком. Священный трепет перед древней книгой не меньше трепета любви… Рядом лежала еще одна, не такая древняя, но тоже внушавшая добрые чувства, в дореволюционном переплете и хорошо сохранившимся золотым тиснением – «Труды профессора Фердинандова».
Живые проницательные глаза Сторожа изучали меня, а в густых зарослях бровей, усов и бороды пряталась ироничная усмешка, – ее не было видно, но она угадывалась, как угадывается под утро восход солнца. Светлая рубашка, воротник которой с длинными старомодными уголками был выпущен поверх воротника старомодного же добротного пиджака, густые чуть вьющиеся волосы, абсолютно седые, зачесанные назад, но с упавшей набок прядью, придающей нечто юношеское узкому лицу с высоким чистым лбом и тонким хищным носом, так явственно напомнили мне одного профессора старой петербургской (до переименования) закваски, которого, впрочем, не было среди моих учителей, что я подумал: «А кто я? Что я знаю о себе?»
– Садитесь, здесь не так жарко, – любезно предложил он мне и, похлопав по книге «Трудов…», добавил: – Читаю вот, чтобы не забыть самого себя… Пока поджидаете директора, я вам расскажу о нашем здании. Это очень интересное сооружение, наше здание. В Египте не бывали? Там, знаете ли, кроме Нила и арабов, есть много пирамид…
– Кьеккенмединги, – пробормотал я. (Как-то в словаре я наткнулся на это слово, в переводе с датского означающего свалку раковин и костей рыб и животных по берегам морей и рек).
– Да, одни оставляют свалки, другие – пирамиды. Если бы вы хоть пять минут постояли под ослепительно-синим африканским небом у подножия пирамиды Хуфу, пытаясь окинуть ее всю взглядом (а это – уверяю вас – никак невозможно; это все равно, как взглядом окинуть, ну, хотя бы свою жизнь), вы стали бы совершенно другим человеком. Хотя, должен вам заметить, любая проблема, связанная с Египтом, чрезвычайно трудна, и мало найдется людей, способных разрешить ее. Предложите самому опытному грузчику мебельного магазина или какому-нибудь атлету поднять хотя бы одну самую маленькую проблему египтологии, ручаюсь, он не сможет даже оторвать ее от земли. Да что там Египет, а Россия? Россия вообще неподъемная махина. За нее и браться-то страшно. Не пробовали?.. После Тибета, кстати, так же себя чувствуешь. На Тибете не бывали? На острове Пасхи? Дольмены тоже не видели? О них в последнее время сочинять стали все кому не лень. Гегель скорее всего имел в виду пирамиды, когда писал, что чем сложнее конструкция, над которой трудится человечество, тем меньше принадлежит она каждому в отдельности. Это верно. Ведь в чем трагедия человека, наша с вами трагедия? В пословице: видит око, да зуб неймет. Вы, верно, подумали, что любым делом надо с молодости заниматься? Пока зубы есть? И честь?
Я поклонился Сторожу. Он улыбнулся.
– Пирамиды – ведь это, собственно, все, что осталось от творения египетского гения. Да и не только египетского, вообще человеческого. Кстати, дочь Хеопса тоже построила пирамиду. Каждый любовник дарил ей камень. Да, это панцири умерших черепах, это черепки цивилизации. Вот только по этим черепкам никто, к сожалению, не может восстановить горшок. Вы совершенно правильно упомянули «кьеккенмединги». Вы проговорились, как может проговориться только образованный человек. Это похвально. Сразу видно, вы прожили жизнь. Сегодня не осталось ни одного целого древнего храма и памятника (да и цельного образованного человека тоже, кстати, нет). Их всех разрушили или пытались разрушить.
– Одни черепа и черепки, – остроумно заметил я.
– Да-да… Вообразите – день за днем, месяц за месяцем под палящим солнцем караваны верблюдов, ослов, лошадей, мулов, рабов, воинов Камбиза везут по пустыне столько дров, что ими можно было бы спалить всю Африку. Привозят, сваливают, обкладывают ими каменную статую непонятного бога с птичьей головой и поджигают их. Статуя чернеет, трещит, лопается и взрывается. А потом на раскаленный камень плещут воду, льют ее со всех сторон, пускают по специальным желобам и воронкам, пока статуя не разваливается на бесформенные куски. Их разбивают кувалдами и камнями на еще более мелкие куски, которые развозят потом во все края пустыни и там бросают, как бросают преступники части расчлененного тела. Проходит много лет и цветущая долина Нила превращается в кладбище.
Я невольно посмотрел на часы.
– Этим, однако, не кончилось. После камня взялись за папирусы, бумагу. Жгли ее и Цезарь, и Феофан, и Омар. Последний потратил полгода на то, чтобы сжечь в кострах, в печах и банях несметное число свитков и книг. Вот эта книга чудом спаслась. Кто сказал, что рукописи не горят? Еще как горят! От света тысячелетней мудрости пламя костров было видно за сотни миль. Его и поныне видно в звездную ночь. От него произошло северное сияние.
– Что же они не совместили эти два занятия – обложили бы рукописями статуи и подожгли их. И возить ближе, и жара не меньше.
– Им не хватало нашей изощренности. Она приходит с годами… В храмах не бывали?
(Интересно, почему он спрашивает с отрицательным утверждением: не бывали? Как проще ответить: да, не бывали, или нет, не бывали? Наверное, проще согласиться с тем, чего не было. Да, не было. Собственно, все мы только и делаем, что соглашаемся с тем, чего нет).
– В храме вы не принадлежите себе. Вы попадаете в силовое поле, как железные опилки на уроке физики. Так же и у подножия пирамид, поверьте, вы становитесь просто тряпкой, а на вершине – ничем, африканским ветром. Только, ради Бога, не спрашивайте об этом наших туристов. Мы ведь, в отличие от жрецов, воспринимаем не саму пирамиду, вершиной уходящую в космос, а ее плоскую проекцию в наш мир. Нам пирамиду не дано понять, она может послать нам лишь озарение.
Я было открыл уже рот, чтобы выразить Сторожу свою признательность за краткий экскурс в историю, но он продолжал свое.
– Одно дело – наверху, и совершенно другое – внутри пирамиды. Там вы ощущаете страшную тяжесть, нависшую над вами, вот здесь, на макушке, чуть дальше темечка. Это – с одной стороны. А с другой – вы, находясь на наклонной полированной поверхности коридора, чувствуете, что там за спиной – пропасть, пустота, а в ней ад. Вы всем своим существом чувствуете, как над вами прогнулись своды, как земля оседает и уходит из-под ваших ног, как вы запутались в невидимых линиях. А вокруг вас, и впереди, и по бокам, и внизу – множество горизонтальных, вертикальных, наклонных узких лазов, ходов и переходов, коротких и длинных широких галерей, шахт, колодцев, спусков, подъемов, ответвлений, лестниц, ступеней, загородок, тупиков, различных складов и хранилищ, голубых комнат с глазурованной плиткой и резьбой, камер, украшенных рельефами, параллельных коридоров, уходящих куда-то вниз, ниш, погребальных камер, ловушек… И вся эта паутина создана только для того, чтобы вы поймались в нее и не думали больше ни о чем другом.
Сторож задумался, видимо, прокручивая перед мысленным взором бесконечную ленту подземного лабиринта.
– Пирамида по внутреннему строению напоминает человека со всеми его органами и системами… Там и располагается ее душа… И вы знаете, так и кажется, что за очередным поворотом появится жрец с прямоугольными плечами и факелом в руках или вас обдаст горячее дыхание какого-нибудь человекобыка.
«Поэт на пенсии», – подумал я.
– Да, я ведь вам обещал про это здание рассказать. Так всегда: начинаешь одно, а получается другое. Начинаешь жить жизнь одну, а заканчиваешь жить уже, увы, другую. А говорят, что жизнь одна, – у Сторожа блеснули глаза. – У нас тут, знаете ли, жрецов и минотавров нет, но чудес хватает. Да и здание замечательное. Помимо двух этажей, об истинных размерах которых вы и не догадываетесь (вы ведь у нас тоже не были?), с множеством залов и кабинетов, лабораторий и закоулков, мастерских и лестничных площадок, есть еще необъятный чердак, используемый хорошо на четверть, чередование лестничных маршей в самых неожиданных местах, целая сеть подземных галерей. Ручаюсь, даже комендант не знает всех закоулков, клетушек и коридоров, пересекающихся под самыми разными углами и идущими на разных уровнях. Есть заведующий «Галерами», а спросите у коменданта, что это такое, услышите мычание. Когда-то эти галереи шли под всем городом к реке. Кое-где сохранились еще рельсы узкоколейки, по которым возили семисоткилограммовые вагонетки с грузами от баржевых причалов. После гражданской – ни купцов, ни грузов, естественно, не осталось. Появились зато всякие неистребимые, как все кровососущие, коммунальные службы, канализация, теперь вот метро. И все они дружненько это подземное царство разрезали, расчленили, как богатырское тело, на никому не нужные, но каждой службе принадлежащие части. «От одной мощи остались одни мощи» – вы совершенно правы. Да-да, тот же Египет в наших уездных масштабах. Собрать это теперь воедино бессмысленно, никакая живая вода не поможет. Даже если это – живая вода «Нелепица». И спросить никто не спросит, и отвечать некому. С пирамидами как-то все по-иному… Может, оттого, что в них душу заложили, а не просто труд и деньги. Около реки сейчас ремонтируют бывшую биржу – сдается мне, что туда и сегодня еще можно попасть под землей – там, в ее подвалах, и хлеб прятали, и золото, и архивы, и люди по очереди пытали друг друга. Планируют и в музее через пару лет заняться капитальным ремонтом, значит, и тут окончательно все загубят.