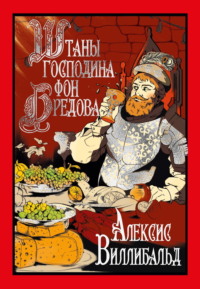Kitobni o'qish: «Штаны господина фон Бредова», sahifa 4
– Быстро в седло! Где у нас какой‑нибудь оседланный конь? Один конь галльской породы всегда догонит другого. Надо брать именно галльского, даже если он не оседлан.
Пришлось Хансу Юргену обходиться без стремян и седла. Конь был старый и длинноногий, костей в нем было намного больше, чем плоти, поэтому тряский аллюр пробирал седока до печенок. В другое время над ним посмеялись бы всласть, но сейчас все было иначе. Если бы кто‑то спросил себя, на чьем месте он хотел бы оказаться – на месте оставшегося в лагере Ханса Йохема или уносящегося вдаль Ханса Юргена, – ответ был бы в пользу последнего.
К вечеру непогода разыгралась по-настоящему. Коварный ветер проносился низко над вереском и шевелил верхушки деревьев. В ином случае госпожа фон Бредова, внимательный взгляд которой ничего не упускал, давно бы уже заметила приближающуюся бурю. Подобно капитану корабля, она быстро и кратко отдала бы приказ: «Поднять паруса! Увязать мешки и тюки! Направить корабль в порт!» Но даже лучшая из женщин все равно остается женщиной. Разбирательство, которое она устроила по возвращении в лагерь, необходимость выполнять функции строгого судьи, решающего участь кающегося грешника, не позволили ей обратить внимание на признаки надвигающейся непогоды.
Так, вероятно, судят самых отъявленных негодяев: возмездие нависает над их головами, как грозовые тучи, чтобы обрушиться на бедного грешника, не давая ему ни малейшего шанса. Возможно, Ханс Йохем и был так плох, как его характеризовала госпожа, но следует признать, что он, по крайней мере, еще не оказался испорчен грехом притворства. То, что он испытывает чувство вины, было написано у него на лбу аршинными буквами. На его белом как мел лице застыло покорное выражение, ставшее совсем жалким, когда госпожа позволила ему оценить всю степень собственного тщеславия и стремления к роскоши. Ее насмешливые слова хлестали его, словно ливень – оконное стекло.
Ханс Йохем вяло пытался защищаться и что‑то бессвязно бормотал, одновременно пытаясь избавиться от штанов, все еще стянутых застежками. По его объяснениям выходило, что он то ли хотел оставить себе эту роскошную вещь, то ли не хотел вовсе.
Неожиданно на его защиту встала Агнес фон Бредова. Юная тихая девушка вдруг превратилась в пламенного оратора. Конечно же, заявила она, он даже не собирался примерять эту вещь. Но торговец насильно впихнул его в штаны. После этого они странным образом буквально прилипли к телу. Она сама видела, как торговец завязывал все эти ремни и застегивал пряжки – вот ведь злой человек! Воспоминание об этом кошмаре так взволновало девушку, что на ее глазах заблестели слезы. И в качестве доказательства правдивости ее рассказа она отметила то, что ее бедный кузен все еще не может избавиться от этой вещи.
Ева с изумлением смотрела, как блестят глаза ее сестры, которая тем временем закончила свою речь так:
– Я совершенно убеждена, что моего кузена заколдовали!
Агнес огляделась в поисках поддержки и почти умоляюще посмотрела на декана. Он пожал плечами и проговорил, что некоторые в Берлине считают эту пришедшую из Нидерландов моду на пышные штаны совершенно неправильной. Говорят, что в них сидят демоны, обманывающие чувства людей. Впрочем, у него слишком мало опыта в подобных мирских делах, чтобы знать все наверняка. Петер Мельхиор, который до сего момента держался в тени, теперь заявил, что он никогда не доверял Хеддериху. Слуга Рупрехт многозначительно покивал головой, а служанка Анна Сюзанна залилась слезами, назвав торговца безбожным магом. После этого декан решил снова присоединиться ко всеобщему обсуждению и заявил, что, если совместные усилия не сработают, он лично берется изгнать нечистую силу посредством надлежащего обряда. «Ну уж нет, – подумала госпожа Бригитта. – Обряд экзорцизма я, пожалуй, возьму на себя!»
Одним рывком сильных рук она порвала пояс штанов, затянутый торговцем на талии Ханса Йохема. Но наколенные ремни были еще застегнуты, и все пятьдесят элле ткани упали на землю, покрыв ноги юнкера огненно-красными волнами. Казалось, что у бочки внезапно лопнули обручи. Вот теперь Ханс Йохем действительно выглядел заколдованным.
– Он, безусловно, был под властью колдовства. Верно, господин декан? – спокойно проговорила благородная госпожа. – Я сейчас объясню, почему это произошло. Когда он надел эту цветную сатанинскую вещь, то захотел убедить себя, что она не украдена, и у него тут же появилось желание никогда ее не снимать. Что‑то подобное с ним уже и раньше приключалось. Дьявольские проделки. А дальше вот что было: пока все называли плута плутом и гонялись за ним по лесам и горам, Ханс Йохем вовсе не возражал по поводу того, что эта вещь осталась с ним. Его даже не раздражало, что ткань прилипла к его телу. Одной рукой он пытался от нее избавиться, а другой крепко придерживал. Потом пришел второй черт и прошептал ему: «Если Хеддерих не вернется за штанами, кто тебя заставит их возвращать? Третий черт посоветовал ему поклясться в том, что он не хотел красть эти штаны, и поклясться тем, чье имя сам он не смог произнести. Сколько же приходило чертей? Один, три, а может быть, семь? И только затем, чтобы юнкер бесплатно смог получить понравившиеся ему штаны! Но я хочу выгнать всех семерых, и не будь я Бригитта фон Бредова, если мне потребуется для этого святая вода или священник!
Проговорив это, госпожа направилась к Хансу Йохему. Тот же пытался отойти от нее подальше, волоча за собой целый текстильный склад и вздымая тучи пыли. Неизвестно, что бы дальше с ним случилось, если бы на помощь не пришел кузен Ханс Юрген.
Сидя на коне без седла и стремян, он вел за собой другую лошадь, на спине которой можно было разглядеть человека, всем своим жалким обликом напоминающего теленка, которого мясник тащит на базар. Поскольку никто не спросил у Хеддериха, не слишком ли быстро движется его лошадь, торговец чуть не свалился на разбросанный по земле товар, когда та внезапно остановилась.
«Что‑то мне здесь перестало нравиться, да и ветер становится все сильнее», – подумал про себя Петер Мельхиор и отошел подальше. Остальные продолжали смеяться от души: при этом одни со злорадством посматривали на торговца, другие с одобрением – на Ханса Юргена. Стоящий здесь же декан лишь поплотнее закутался в свою мантию. Наконец и остальные начали замечать, что ветер и впрямь усилился. Он уже не шелестел верхушками деревьев, а то трещал, как огонь в печи, то принимался выть и свистеть. Вода в реке тоже стала очень неспокойной, а вороны с карканьем носились над соснами.
Незаметно подкралась черная туча, огромная, как гора. Внизу она разверзлась, будто распахнув гигантские ворота, и оттуда метнулся на землю яркий всполох.
«Иисус, Мария, помилуйте меня! Что же это происходит?!» – воскликнул или подумал каждый из присутствующих. А благородная госпожа лишь спокойно прикрыла рукой глаза:
– Буря – вот что это такое!
Стоило ей это произнести, как раздался треск, похожий на выстрел. У шатра, стоявшего с краю, сорвало крепление, и он опрокинулся, ветер тут же подхватил его и с шумом пронес над людскими головами. Не только шатер, но и белье вместе с прочими вещами взлетело, как снежный ком. Вслед за этим в воздух взметнулись шляпы, шапки и плащи – все, что не смогли удержать. Когда ели гнутся, словно тростинки, стоит ли удивляться белым как мел лицам, молитвам, вылетающим из бледных уст, и призывам о помощи, адресованным самым разным святым?
– Место здесь нечистое, я всегда это говорил, – проворчал Петер Мельхиор.
Как бы подтверждая его слова, кто‑то воскликнул:
– Смотрите, вот летит ведьма!
Пожалуй, это действительно были не просто облака, гонимые бурей среди желто-красных всполохов света. Что‑то просвистело над головами, цепляясь за ветки елей. Какой‑то ком, чудовище всех возможных цветов, раскинувшее в воздухе корявые руки.
– Аве Мария, все святые! – простонал декан. – На меня что‑то напало!
Он упал на колени, поскольку какая‑то темная, непреодолимая сила распластала его по земле. Декан тщетно боролся, напоминая несчастного греческого героя, которого жена укрыла погибельным хитоном. Но каждый думал лишь о собственном спасении. Даже благородная госпожа Бригитта пробежала мимо, ничуть не заботясь о своем друге. Впрочем, добрая женщина успела подхватить Ханса Йохема, которому наконец удалось избавиться от застежек и который застыл на месте, не в силах отвести глаз от раздутых пестрых штанов, уносимых ветром. Госпожа Бригитта в свойственной ей манере напомнила ему, что сейчас не время ротозейничать. Не лучше пришлось и Хансу Юргену – ему она тут же поручила новую работу. А ведь он едва справился с предыдущей! О спасении бедного юноши она совсем не беспокоилась. Но что поделаешь: в трудные времена каждый за себя.
Вероятно, только торговец Хеддерих был тем человеком, который почти не растерялся и смог позаботиться о себе, как только представилась такая возможность. Совершив прыжок, он сшиб стоявшего у него на дороге декана. Бедный декан! Он вскрикнул от ужаса, ибо решил, что все Божье воинство обрушилось на него. Оставалось лишь бормотать молитвы. Однако Божье воинство внезапно оставило его в покое. Благочестивый пастырь лишь успел расслышать обращенные к нему слова:
– Чтоб тебя! Если уж лицо духовного звания выступает на стороне воров, чего еще ждать… Но не выйдет, поцелуйте меня в…
– Sanctissima! 31 – завопил декан и скрылся в дремучем лесу вслед за остальными.
Если бы кто‑нибудь увидел все происходящее со стороны, он, безусловно, подумал бы о шабаше ведьм. Сколько же было неразберихи и суматохи! Но прошла всего лишь четверть часа, и в лесу стало безлюдно – люди, животные и телеги исчезли среди деревьев. Если бы буря стихла хоть на мгновение, еще можно было бы расслышать, как скрипят колеса и гудит рожок, но не осталось ни платка, ни чулка, забытого на кустах, ни тех, кто был здесь занят целую неделю стиркой. Благородная госпожа все еще высматривала во тьме потерянное белье. Однако если что‑то белое и мелькало между соснами, так это была пена из озера, занесенная бурей в лес. И если в сумерках и было видно какое‑то движение, то это качались стволы. А то, что можно было бы принять за голоса, оказалось уханьем совы да тявканьем лисицы, которая проверяла, не осталось ли в лагере чего‑нибудь съедобного.
Но в лесу все еще оставался один человек, брошенный в одиночестве среди ночи. Он глухо застонал, словно выпуская на волю боль, которую сдерживал в груди долгое время. Теперь его мучителей не было рядом, и он мог себе позволить подать голос. Дикий крик, полный отчаяния и дьявольской злобы, вырвался наружу, когда торговец Хеддерих наконец сумел опомниться после неудачной торговли, закончившейся побоями и бешеной скачкой:
– Живодеры, а не люди! Сборище разбойников! И это называется благородные господа! Хуже было бы только, если бы я попал в руки Кекерица и Людерица! 32
Он воздел к небу руки, и выглянувшая сквозь разорванные тучи луна осветила искаженное лицо человека, замыслившего недоброе. Люди с такими лицами обычно не ждут, когда к ним придет честно заработанное богатство, они берут его сами – на большой дороге.
– О вы, благородные господа, вы, рыцари, вы, феодалы, вы, облеченные властью, наступайте на червя, тычьте в него копьями до тех пор, пока не проткнете все его внутренности, катайте его шпорами по песку, сдирайте с него кожу и плюйте в него! Это замечательное времяпрепровождение! Спаси меня святой Николай, я тоже хочу от души посмеяться. Посмеяться, как смеется майский жук, который, будучи привязан к нитке, вдруг разрывает ее и улетает. Суть у меня такая же, как и у вас, но я должен извиваться всем телом, каждым его членом, когда вы топчете меня, мои шелка, мои ткани, мои мечты! Я такой же, как и вы, почему же я должен пресмыкаться, словно дождевой червь? Вы растоптали и меня, и мое сукно, и мою шерсть! Всемилостивая Матерь Божия, милосердная! Чума! Ад и дьявол! Пропащий я человек! Если они… – Казалось, он сам испугался своих мыслей.
Вздрогнув, торговец провел рукой по растрепанным волосам и бросился на мешок с товарами, вцепившись в него мертвой хваткой. Проверяя его содержимое, он то и дело сжимал тощие руки в молитве. Нервно перебирал он предмет за предметом. Его лоб взмок от ужаса. Наконец его пальцы коснулись заветного свертка. Он встряхнул его и тут же услышал прекрасный звон серебра. Лицо мужчины просветлело, губы искривились в гадкой усмешке. Он презрительно рассмеялся, а его рука, которую он хотел сложить для крестного знамения, лишь хищно пошевелила пальцами.
– Ну что, нашли, стервятники, ястребы, падальщики? – бормотал он. – Слепые дворняги, вы подняли лай слишком рано. Но подождите, долго волки прятались за забором. Справедливость восторжествует. Вы будете плакать и скрежетать зубами, когда они вопьются в ваши ноги. Я бедный человек, но вам будет житься хуже, чем мне, хуже, чем самой поганой собаке. Вы говорите, что курфюрст – мальчишка. Из мальчиков вырастают мужчины, а вот о том, что будет с вами, надо будет спросить у палача. Распрягли моих лошадей, побросали мои товары! Кто возместит ущерб? И ремни порвались. Кто их свяжет? Крышка сундука продавлена. Я подам в суд! Клянусь! Клянусь своей шеей, хоть меня здесь никто и не слышит. Золота и серебра в этом сундуке было на три тысячи… Пресвятая Дева, что это такое?!
Что‑то зашуршало и захлопало. Буря утихла, теперь дул лишь легкий ветер, который раскачивал на сосне нечто напоминающее гигантские руки. Клаус Хеддерих ловко, словно кошка, соскочил с телеги и залег под ней, стуча зубами от ужаса.
– Святой Николай, святая Урсула, Пресвятая Богородица, спасите меня! Бог Отец, Сын и Святой Дух, я всегда крестился на перекрестках дорог, я никогда не пропускал обедни, конечно, когда мог ее не пропускать, я не совершал смертных грехов, не проливал ничью кровь, я исповедуюсь и молюсь, когда заканчиваю с торговыми делами. Еретические учения мне противны, я всегда плюю вслед евреям. Я принес освященную свечу в жертву Деве Марии в Хафельбергском соборе. А еще я толкнул рабби Элиезара локтем, когда встретился с ним на лестнице. Святая Клара, святая Марта, святая Урсула и Христова кровь в Вильснаке 33, клянусь, я просто ошибся, не было в сундуке золота и жемчугов, я соврал! Уважаемые святые должны учесть, что я раскаялся! Я завышаю цены не более чем на десять монет. А еще я готов поклясться, что мой овес стоит выше рыночного на сущие гроши. Все это я делаю исключительно по доброте душевной…
Ведьма, сидящая на дереве, не спешила его хватать. Все еще бормоча, торговец поднял голову и стал всматриваться из-под спутанных волос. Но чем больше он вглядывался в то, что его напугало, тем тише делался его шепот. Нечто все еще шуршало и хлопало между сосен, но торговец уже сидел на земле и стряхивал с себя пыль. Затем он сердито прокричал:
– Ну и вздор! Это же старые штаны Гётца фон Бредова! Вот они‑то мне и пригодятся вместо порванных ремней.
Глава пятая
Замок Хоен-Зиатц
После того как буря утихла, флюгер на крыше еще долго крутился на своих ржавых петлях. Луна смотрела сквозь рваные облака на старый замок Хоен-Зиатц, и если бы у нее могли быть какие‑то эмоции, то сейчас она была бы озадачена. При свете дня любой путешественник назвал бы замок обветшалым родовым гнездом. Он находился на возвышении, среди заболоченных лугов. За ними, там, где заканчивались пруды и канавы, раскинулись сосновые леса. Их белоснежный песок постепенно переходил в темное болото. Узкие и кривые тропинки причудливо петляли по лесу, и по сравнению с ним участки, засеянные рожью и овсом, казались такими маленькими, что возникало сомнение в том, что они могут прокормить людей, живущих в замке. В тени замковых стен виднелась маленькая деревенька, убогие глинобитные домишки которой тянулись к лесу и терялись в нем.
Должно быть, в былые времена за каменными укреплениями можно было отыскать надежное убежище от врагов. Холм, на котором находился замок, не был песчаным, а состоял из плотной земли, покрытой коротким густым дерном. При ближайшем рассмотрении можно было понять, что, по крайней мере, верхняя его часть не была создана природой, но являлась делом рук человеческих.
Этот холм, на котором громоздились укрепления, являлся не чем иным, как старым валом вендов 34, на котором впоследствии германцы возвели каменные стены. Замок отличался от тех, что можно увидеть во Франконии, Швабии или Саксонии, где на горах и холмах под солнцем горят красные черепичные крыши. Толстые стены и башни, возвышавшиеся над земляными валами и за ними, были построены в разном стиле. Похоже, в какой‑то момент у владельцев фортеции закончились средства или иссякло желание тратить на строительство жилища лишние деньги, и они вернулись к материалам, освященным обычаями предков. Там, где заканчивался камень, использовалось дерево, а при нехватке кирпича фахверковый каркас заполнялся обычной глиной. Даже главная стена замка не производила впечатления законченной постройки – промежутки в каменной кладке заполняли бревна и балки, тут и там щетинились клыками окованные железом навершия. Ворота представляли собой большую каменную арку, впрочем, не намного шире, чем на некоторых крестьянских фермах в Саксонии. Восьмиугольная башня была деревянной, но обложена красным кирпичом. Там, где кирпичи выпадали, в более поздние времена довольствовались для починки строительным раствором и глиной.
Снаружи это выглядело достаточно пестро и не всегда ровно. Если бы блаженной памяти маркграф Фридрих Первый 35 расположился сто лет назад со своей «Ленивой Гретой» 36 у стен Хоен-Зиатца, дело закончилось бы быстрее, чем это было с Плауэном, Ленценом и другими замками, толщина стен которых достигала семи элле. Предок господина Гётца – Бредов фон Хоен-Зиатц – предпочел тогда подчиниться, чтобы не доводить дело до осады. «Чего нельзя изменить, то надо принять», – вероятно, думал он, когда поутихла радость от славной битвы при Креммер Дамме 37. Он благодарил Бога за то, что франконские воины прошли мимо их болота и ни у кого не возникло желания проехать по извилистой дамбе через затопленный луг. Если бы это случилось, деду нынешнего владельца Хоен-Зиатца, скорее всего, пришлось бы отдать старое знамя, которое он отнял в драке у самого Гогенлоэ 38. А так оно осталось в замке. Правда, не в нижнем зале, вместе с доспехами, а наверху, в маленькой спальне, прямо над кроватью Гётца. Рыцарь удалялся в эту комнатку, когда ему хотелось отдохнуть от суеты.
Древко уже давно съели древоточцы, время и пыль оказались безжалостны к шелку. Однажды летом в знамени свил гнездо маленький сыч, и добрейший господин Готтфрид заметил это лишь тогда, когда ночью распищались птенцы. Сначала он испугался, поскольку первые его мысли были о злых духах (подобные размышления не зазорны для христианского рыцаря, ведь даже самый благочестивый из них может быть устрашен нечистой силой). Разобравшись, в чем дело, господин Готтфрид справедливо решил, что даже совсем маленькие создания тоже хотят жить. Он повернулся на другой бок и заснул. Ну а в том, что это самое настоящее сычиное гнездо, любой мог бы убедиться ночью, когда его обитатели покидали дом, вылетая из окна спальни.
Возможно, вам было бы интересно узнать, как еще дикие ночные птицы уживались с людьми? Дело в том, что в домах наших предков хватало места для всех, а люди были крайне непритязательны. Что еще нужно человеку, кроме кровати и крыши над головой? Едва издав первый крик, ребенок видит вокруг стены родного дома. Так заведено издавна: потаенное не должно происходить на глазах у всего мира. Но когда младенец вырастет, Господь откроет для него свой великий дом, где найдется место для тысяч и сотен тысяч живых существ, которые обитают в нем в настоящее время и будут обитать в будущем. Солнце станет свечой и очагом этого дома, а деревья будут навевать прохладу и спасать от ветра лучше, чем самые толстые стены. Когда сядет солнце, пойдет дождь или начнет мести метель, люди снова уйдут под защиту домов, где, сидя у очага, шутками и доброй беседой разгонят ненастье. Все прекрасно понимают, что человеку негоже быть долго одному, оставаясь со своими мыслями.
В замке Хоен-Зиатц хватало места всем. У лошадей имелись конюшни во дворе, у собак – будки у ворот, у свиней – собственные загоны, даже коров и быков при плохой погоде иногда загоняли под крыши. Как уж они там ладили с лошадьми, было их личной заботой. Аист гнездился на коньке крыши господских покоев, ласточки вили гнезда на деревянных галереях, опоясывающих двор, голуби – на замковой башне, совы – в старых стенах, швабы 39 прятались по щелям, червяки – в древесине, мыши – в подвале и коридорах, а люди жили каждый в своей комнате. А если у слуги не было комнаты, он спал на одной из лавок, стоящих в коридоре, или выгонял во дворе из-под навеса собак. Одним словом, каждый находил себе место. Для замерзшего всегда горел очаг, чтобы можно было согреться, для голодного имелись хлеб и каша. Кладовая никогда не пустовала. Обо всем этом заботилась добрая хозяйка, не выпускавшая из рук ключи. От нее также зависело, чтобы любой обиженный получил ласковый взгляд и ободрение. Госпожа фон Бредова привечала в своем доме всех, не выносила только лентяев и проныр.
Так вот, имей луна эмоции, она была бы озадачена. В конце концов, всегда есть что‑то такое, чему можно удивиться. Некоторые удивляются, когда в мире какое‑то время царит тишина и все идет своим чередом, а другие, наоборот, – когда приходит буря и все переворачивает с ног на голову, нарушая старый порядок, который почему‑то не может сохраняться вечно. Луна же, умей она говорить, лучше всех рассказала бы, чему действительно стоит удивляться в этом мире. Она бесконечное число лет смотрит на землю и видит все, что нами движет. Ей все равно. Она не смеется и не плачет, ее лик всегда холоден и равнодушен (правда, нельзя утверждать, что в глубине души она не считает нас глупцами). Луна могла бы удивиться ветру, превратившемуся в ураган, какого не припомнят и старожилы, – он хлестал лес так, что верхушки деревьев напоминали морские волны, и так сотрясал замок, что треснули стропила. Гнездо аиста оказалось сброшено с конька крыши, черепица сорвана ветром, а покосившийся щипец 40 сдвинут на расстояние в половину шу 41. Удивительно, что он вообще уцелел. Но еще больше удивляло то, что хозяин замка, спавший в своей комнате, не проснулся.
Когда буря, словно пронесшееся мимо дикое войско, отступила, вокруг воцарилась тишина, ночной воздух буквально застыл. И нигде не было видно следов большой стирки.
Через два часа после того, как последняя повозка проехала по разводному мосту, все белье уже было разложено по местам, – ничего не пропало во время долгого пути. Слуги говорили друг другу, что их госпожа относится к тем людям, которые могут противостоять и плохой погоде, и злому ветру. Теперь над потрескивающим огнем грелись котлы, а на вертеле пузырились и истекали соком окорока. Хозяйка успела спуститься в подвал и постучать по бочкам, а слуги вынесли в переднюю самые полные и тяжелые из них. Госпожа Бригитта справедливо рассудила, что после работы люди нуждаются в отдыхе. А вот себя она не жалела: пока все сидели за большим столом, она все расхаживала вверх-вниз по лестнице, а ее связка ключей гремела так, что перекрывала звон кубков.
Пиршественный зал был невысоким, с самым простым, не сводчатым потолком – прокопченные дымом балки нависали над головой бурыми ребрами, теряясь в полумраке. Если где‑то еще сохранялась какая‑то отделка – резьба и узоры, – их использовали, чтобы что‑нибудь повесить: щит, доспехи, шлем, кое-где котел или даже окорок. Пол зала состоял из утрамбованной глины, а столы и скамейки были сделаны из такой крепкой древесины, что плотник не стал особо усердствовать, обрабатывая ее рубанком и долотом. От улицы зал отделяли только порог да дверь. Когда кто‑то входил, внутрь врывались дождь и ветер, так что дверь старались лишний раз не закрывать, поэтому дым из очага не застаивался в помещении, как это бывает в старых домах, а с треском вылетал в трубу, благодаря чему искры в деревянной трубе не задерживались. Правда, для труб использовались молодые дубовые стволы, оплетенные ивовыми прутьями и обмазанные глиной, так что загорались они не часто. Но если такое случалось, хозяйке приходилось посылать прислугу на крышу с ведром воды, дабы не приключилось пожара. В замке Хоен-Зиатц труба стояла уже более ста лет. Она простоит еще дольше, если в нужный момент рядом окажется кто‑нибудь с ведром воды в руках: огонь погаснет, а дерево послужит еще.
Древесина и воздух – вот богатства наших предков. И того и другого было в избытке в доме фон Бредовых в Хоен-Зиатце. Как уже говорилось, воздух в жилище поступал через дверь и дымоход, а также через лестницы с верхнего этажа. Дело в том, что по обе стороны от очага, который мы без всякого на то основания называем камином, вверх вели сразу две массивные извилистые лестницы, украшенные резными балясинами из красного дерева. Время так же мало пощадило их, как и деревянные панели с яркими изображениями, которыми были обшиты сверху донизу лестничные пролеты. Если бы не дым и их почтенный возраст, на них можно было бы увидеть аллегории семи смертных грехов и прочесть много благочестивых изречений. Повсюду ощущался груз лет, и то, что раньше подновлялось и чинилось, теперь пребывало в печальном запустении.
В прежние времена, когда хозяин пировал здесь с семьей и слугами, благородные господа и их гости размещались подле очага, а слуги располагались внизу, у дверей. Раньше очаг большого зала использовался для приготовления пищи, теперь же, уже на протяжении двух поколений, еду готовили в боковых помещениях. Лишь иногда хозяйка замка грела над очагом теплое утреннее пиво или имбирный суп 42 для супруга, особенно если на улице было промозгло, а ему надо было куда‑нибудь идти. Порой в замке устраивались пиры, но это были уже совсем не те пиры, что в старые добрые времена. Господин Готтфрид, как правило, держался довольно угрюмо, но стоило ему прийти в расслабленное расположение духа, как госпожа Бригитта тут же отсылала слуг. Хотя те и сами были не против умять свою тарелку каши на конюшне или во дворе. Хозяйка тоже была рада такому положению дел, поскольку так еда съедалась намного быстрее. Госпожа Бригитта не видела большой пользы в затянувшейся болтовне: умному человеку и в голову не придет заниматься такими пустяками. Однако господин Готтфрид фон Бредов считал, что она заблуждается, ведь вино должно веселить сердца, а значит, выпивать в компании – хорошая привычка, доставшаяся нам от предков. Но, поскольку старые добрые времена миновали, то и он вынужден был привыкать к новому укладу и даже, если требовалось, учиться пить в одиночестве.
Казалось, в этот раз вино совсем не веселило. Все сидели вокруг потемневшего от времени стола и казались не то чтобы сонными, но какими‑то вялыми. Огонь в очаге уже погас, и сосновые факелы, висевшие на стенах, обросли пеплом. Башенные часы пробили девять.
– Надо же было так испугаться, что теперь страшно идти спать, – проговорил кто‑то из присутствующих.
Декан, пребывавший в состоянии глубокой задумчивости, откашлялся и произнес:
– С избавлением, благородные господа! Поскольку, как мне показалось, с неба падал по меньшей мере ужасный метеоритный дождь, вероятно, никто толком не разобрался, что с нами произошло. В такие минуты ужаса и смятения слабый грешный человек видит вокруг себя то, чем полна его душа.
Далее их разговор стал крутиться вокруг пережитых событий: действительно ли юнкера Ханса Йохема околдовали, не видел ли кто ведьмы, летящей сквозь бурю, и не был ли всему виной торговец, который их сглазил?
Полутемный зал в одиноко стоящем замке с наступлением ночи меньше всего подходит для того, чтобы избавляться от страха перед привидениями. Впрочем, как ни странно, те, кто, очевидно, поддался этому страху, теперь меньше всего хотели с ним расставаться. Ханс Йохем уже не первый раз демонстрировал, как именно у него застряли пальцы, когда он пытался расстегнуть пряжки на штанах, иначе он, конечно, сразу сорвал бы эту дрянь со своего тела. А Петер Мельхиор клялся и божился, что декан едва не был изувечен нечистой силой. Декан же, в свою очередь, повторив мысль Петера Мельхиора, рассказывал о том, как он улучил момент и справился с опасностью.
Спор о чем‑либо – это извечное удовольствие людей, собравшихся вместе. Каждый думает, что он умнее другого. Бывает так, что кто‑то мнит себя умнее в одном, а кто‑то – в другом, и, когда они принимаются спорить, выходит очень занятно, хотя и не всегда хорошо заканчивается. Оба молодых кузена увлеченно слушали разговор декана и юнкера, при этом Ханс Йохем к месту и не к месту вставлял замечания, а Ханс Юрген просто молча слушал, сидя в углу.
Благодаря спорам всем стало известно, что юнкер Петер Мельхиор – мот, который растратил все свои деньги и, вероятно, еще растратит, если они у него когда‑нибудь появятся. А пока у него ничего нет, ему остается лишь пьянствовать с кузенами и друзьями. Победа далась декану достаточно легко, поскольку юнкер, хоть и был неутомим в спорах, но легко раздражался и проигрывал, если кто‑то указывал ему на его слабости.
Потом поспорили, кого больше любит черт: священников или юнкеров. Петер Мельхиор утверждал, что Сатана ни о чем другом и не мечтает, как только набить ад лицами духовного звания. Декан парировал тем, что, по его мнению, тогда оруженосцы на земле получат полную свободу действий и прибегут к черту сами. Петер Мельхиор поделился мнением, что ничто не доставит Господу большего удовольствия, чем ухватить за волосы и потрясти жирного священника. Декан резонно возразил, что некоторых юнкеров бесполезно трясти за волосы, поскольку из них не вытрясти ни единой добродетели.
Постепенно спор перешел на то, кто лучше умеет обманывать дьявола. Декан признал, что в вопросах обмана священнослужители даже более искусны, чем женщины. Другое дело, что обман дьявола грехом не считается. Более того, труд доброго христианина в том и состоит, чтобы лишить дьявола того, что ему принадлежит.
Петер Мельхиор рассказал об одном аббате, который играл с дьяволом, поставив на кон свою душу. Дьявол проиграл.
– Когда дьявол уходил, он смеялся. И знаете почему? В тот момент он не забрал с собой души аббата, но все же он ее в конечном счете получил. Дело в том, что аббат играл фальшивыми кубиками. Даже дьявола не следует обманывать.