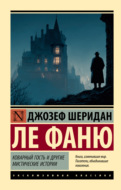Kitobni o'qish: «Последний день приговоренного к смерти»
Последний день приговоренного к смерти
Объяснить происхождение этой книги можно двумя способами. Может быть, и в самом деле нашлась пачка листов, пожелтевших и неровных, на которых записывались одна за другою мысли несчастного, а может быть, и встретился человек: мечтатель, наблюдающий природу ради польз искусства; философ; поэт, – вероятно, у которого эта мысль превратилась в каприз, в фантазию, который взял ее, или лучше сам отдался ей и не иначе мог отвязаться от нее, как бросив ее в книгу.
Пусть из этих двух объяснений читатель изберет, какое ему более понравится.
I
Бисетр
Приговорен к смерти!
Вот уже пять недель, что я живу с этой мыслью, всегда один с ней, всегда объятый холодом от ее присутствия, всегда согбенный под ее гнетом.
Когда-то – мне кажется, с тех пор прошли годы, а не недели, – я был человек как человек. Дни, часы, минуты имели свою определенную мысль; дух мой, молодой и богатый, был полон фантазий. Он любил развивать их передо мною без связи и без конца, рисуя неисчерпаемые арабески на грубой и тощей ткани жизни. То были все молоденькие красавицы, блестящие епископские мантии, выигранные битвы, театры, залитые шумом и светом, а потом опять красавицы и темные прогулки ночью под широкими объятиями каштанов. Был всегда какой-то праздник в моем воображении; я мог думать о чем хотел, я был свободен.
Теперь я в неволе. Тело мое заковано в тюрьме; ум в плену у мысли, ужасной, жесткой, неумолимой мысли! Одна у меня только идея, одно убеждение, одна непреложная истина: приговорен к смерти!
Что бы я ни делал, она всегда тут, эта адская мысль, стоит около меня, как свинцовый призрак, одинокая, ревнивая, отгоняющая всякое развлечение, стоит лицом к лицу со мною, несчастным, и теребит меня ледяными руками, когда я захочу отвернуть голову или закрыть глаза. Она вкрадывается под разными видами всюду, где ум мой хотел бы ее избегнуть, примешивается, как ужасный припев, ко всем словам, с которыми ко мне обращаются, прилипает вместе со мною к отвратительным решеткам моего каземата, не отстает от меня, когда я бодрствую, стережет мой судорожный сон и снится мне в виде ножа.
Пробуждаюсь, вскакиваю, преследуемый ею и утешая себя, что это только сон! И что же? Еще мои отяжелевшие веки не успеют раскрыться настолько, чтоб увидеть эту роковую мысль, написанную на ужасной действительности, которая меня окружает, на грязных и вспотевших плитах пола, на бледном луче ночной лампы, на грубой ткани моего холщового халата, на темной фигуре часового, которого сумка блестит сквозь решетки каземата, – как уже мне чудится, какой-то голос шепчет мне на ухо: «Приговорен к смерти!»
II
Было прекрасное августовское утро.
Уже три дня как начался мой процесс; три дня как мое имя и преступление собирали каждое утро целые кучи зрителей, которые усаживались на скамьях присутственной залы, как коршуны около трупа; три дня как вся эта фантасмагория судей, свидетелей, адвокатов, королевских прокуроров сновала и проходила передо мною, то грубая, то кровожадная, всегда мрачная и роковая. Первые две ночи от беспокойства и страха я не смыкал глаз; третью спал от скуки и усталости. В полночь я оставил присяжных за обсуживанием моего преступления. Меня опять привели к соломе моего каземата, и я тут же заснул глубоким сном, сном забвения. Это были первые часы покоя после многих дней.
Я был еще погружен в самую глубь этого глубокого сна, когда меня разбудили. На этот раз – мало было тяжелой поступи и подкованных башмаков тюремщика, звяканья связки ключей, дикого скрежета замков, – чтоб разбудить меня из летаргии, понадобился его грубый голос над моим ухом и его жесткая рука на моем плече.
– Вставайте же!
Я открыл глаза и, испуганный, сел на койке. В эту минуту из узкого и высокого окна каземата я увидел на потолке соседнего коридора – единственном небе, которое я мог видеть, – тот желтый отблеск, в котором глаза, привыкшие к тюремному мраку, так хорошо умеют узнавать солнце. Я люблю солнце.
– Хорошая погода, – сказал я тюремщику.
С минуту он молчал, как будто недоумевая, стоит ли тратить на это слова, потом с некоторым усилием проворчал:
– Пожалуй, что и так.
Я неподвижно сидел на койке, полусонный, улыбающийся, и пристально смотрел на тихий золотой отблеск, озарявший потолок.
– Прекрасный день, – повторил я.
– Так-то-так оно так, – отвечал тюремщик, – а вас ждут.
Эти немногие слова, как нитка, останавливающая полет насекомого, насильственно отбросили меня в действительность. Я вдруг увидел, как в блеске молнии, мрачную залу асизов, подкову судей, обитую красною, как кровь, материей, три ряда свидетелей с бессмысленными лицами, двух жандармов с обоих концов моей скамьи и черные волнующиеся платья и головы толпы, кишащие в тени, и остановившиеся на мне пристальные взгляды двенадцати присяжных, которые бодрствовали, в то время как я спал.
Я встал. Зубы мои стучали, руки тряслись и не могли найти платья; в ногах была слабость. На первых же шагах я споткнулся, как через силу обремененный носильщик, однако побрел за тюремщиком.
Два жандарма ждали меня у порога моей кельи. На меня опять надели кандалы. В них был маленький мудреный замочек, который они тщательно заперли. Я не сопротивлялся. Они надевали машину на другую машину.
Мы прошли внутренний двор. Утренний воздух оживил меня. Я поднял голову. Небо было ясно, и теплые лучи солнца, разрезанные длинными дымовыми трубами, чертили большие углы света по вершинам высоких и мрачных стен тюрьмы. Погода в самом деле была прекрасная.
Мы поднялись по круглой винтообразной лестнице, прошли коридор, потом другой, потом третий, потом отворилась перед нами низенькая дверь. Теплый воздух, растворенный шумом, обдал мое лицо. Это было дыхание толпы в зале асизов. Я вошел.
При моем появлении поднялся шум от оружия и голосов. Скамьи с грохотом задвигались, перегородки затрещали, а в то время как я проходил по длинной зале меж двух масс народа, облицованных солдатами, мне казалось, что я центр, к которому стремятся нити, двигающие все эти лица с разинутыми ртами.
В эту минуту я заметил, что был без кандалов, но не могу припомнить, где и когда мне их сняли.
Вдруг настало глубокое молчание. Я дошел до своего места. В ту же минуту, как прекратился хаос в толпе, он прекратился и в моих мыслях. Я вдруг понял ясно, что до сих пор мне только мерещилось, понял, что настала решительная минута и что я стоял тут для выслушания приговора.
Непостижимое дело. Эта мысль теперь вовсе не ужаснула меня. Окна были отворены; воздух вместе с городским шумом свободно врывался с улицы, зала сияла, как будто свадебная; веселые лучи солнца чертили там и сям светлые четвероугольники рам, продолговатые на полу, косые на столе и ломаные по углам стен, а в сверкавших снопах света у окон каждый луч вырезывал в воздухе большую призму золотой пыли.
Судьи в глубине залы смотрели самодовольно – вероятно от радости, что скоро покончат. Лицо президента, мягко освещенное отражением одного стекла, было как-то особенно добро и кротко; молодой асессор почти весело, пощипывая свои брыжи, разговаривал с какой-то молоденькой дамой в розовой шляпке, сидевшей позади него, очевидно по протекции.
Одни присяжные казались бледными и убитыми, но это было, вероятно, от усталости и бессонной ночи. Некоторые из них зевали, и ничто в них не предвещало людей, которые произнесли смертный приговор; на этих добрых мещанских лицах я прочел только большое желание выспаться.
Прямо передо мною окно было совсем отворено. Я слышал, как на набережной смеялись продавцы цветов, а на краю подоконника какая-то хорошенькая желтая травка, выросшая во шве двух плит и вся пронизанная солнечным лучом, играла с ветром.
Каким же образом роковая мысль могла зародиться среди таких грациозных ощущений? Залитый воздухом и солнцем, я не мог думать ни о чем больше, как о свободе; надежда заблистала во мне, как день блистал вокруг меня, и я доверчиво ждал приговора, как ждут освобождения и жизни.
Между тем прошел мой адвокат. Его ждали. Он только что славно и с аппетитом позавтракал. Дошедши до места, он с улыбкой наклонился ко мне:
– Я надеюсь.
– В самом деле? – отвечал я, облегченный и тоже улыбающийся.
– Да, – начал он снова. – Я еще ничего не знаю об их решении, но, вероятно, они отстранят премидитацию, и тогда только навсегда в каторжную работу.
– Что вы, милостивый государь? – возразил я с негодованием. – Уж в тысячу раз лучше смерть!
Да, смерть! «А потом, – нашептывал мне какой-то внутренний голос, – чем я рискую, сказав это? Когда же видано было, чтоб произносился смертный приговор не в полночь, при факелах, не в черной и мрачной зале какою-нибудь холодною и дождливою зимнею ночью, но в августе, в восемь часов утра, в такой прекрасный день и такими добрыми присяжными… Невозможно!» И глаза мои снова занялись хорошеньким желтым цветочком на солнце.
Вдруг президент, ждавший только адвоката, пригласил меня встать. Солдаты сделали на караул; как будто от электрической искры, все собрание вдруг встало. Какая-то незначащая фигурка, сидевшая за столом пониже трибунала (это я думаю, был грефье –секретарь суда), стала говорить и прочла приговор, произнесенный присяжными в мое отсутствие. Холодный пот выступил из всех моих членов. Я прислонился к стене, чтоб не упасть.
– Адвокат, не имеете ли вы чего-нибудь сказать насчет приложения наказания? – спросил президент.
Я бы, кажется, тут все сказал, но ничего не пришло мне в голову. Язык мой прильнул к гортани.
Защитник встал.
Я понял, что он будет стараться смягчить приговор присяжных и вместо произнесенной ими песни выставить на вид другую, ту самую, которая недавно так меня возмутила.
Видно, негодование во мне было слишком сильно, что проступило сквозь тысячи ощущений, овладевших моими мыслями. Мне захотелось громко повторить ему то, что уже сказал: «Уж в тысячу раз лучше смерть!» – но у меня захватило дыхание и я мог только грубо остановить его за руку и закричать с судорожною силой:
– Нет!
Генеральный прокурор возражал адвокату, а я слышал его с бессмысленным довольством. Потом судьи вышли, потом снова вошли, и президент прочел мне приговор.
– Осужден на смерть! – сказала толпа, и в то время как меня уводили, весь этот народ устремился вслед за мною с шумом разрушающегося здания.
Я же шел опьянелый и обезумевший. Переворот совершился во мне. До смертного приговора я чувствовал, что дышал, жил, трепетал в той же среде, что и другие люди; теперь же я ясно увидел какой-то забор между мною и миром. Ничто уже не являлось мне таким же, как прежде. Широкие светлые окна, яркое солнце, чистое небо, прекрасный цветочек – все стало беловато и бледно, все приняло цвет савана. В людях, женщинах, детях, толпившихся на моей дороге, мне вдруг стало казаться что-то призрачное.
Черная и грязная карета с решетками у окон ждала меня у лестницы. Влезая в нее, я случайно взглянул на площадь.
– Приговоренный к смерти! – кричали прохожие, бросаясь к карете. Сквозь туман, который теперь застил мне все предметы, я различил двух молоденьких девушек, следивших за мною жадными глазами.
– Славно, – сказала младшая, хлопая в ладоши. – Посмотрим через шесть недель.
III
Приговорен к смерти!.. Ну, так что ж? Мне помнится, я читал в какой-то книге, в которой и было только хорошего, что «…все без исключения люди осуждены на смерть, только с неопределенными сроками». Что же особенно изменилось в моем положении?
С той минуты, как приговор был произнесен надо мной, сколько умерло людей, прочивших себя на долгую жизнь! Сколько предупредило меня молодых, свободных, здоровых, которые, наверное, рассчитывали посмотреть, как упадет голова моя на Гревской площади! Сколько еще таких, которые теперь движутся, дышат чистым воздухом, входят и выходят по своей воле и все-таки отправятся раньше меня!
А потом, и то сказать, уж будто жизнь так привлекательна для меня? И в самом деле, мрак и черный хлеб тюрьмы, порция тощего бульона, налитого из ушата каторжников; толчки и грубости тюремщиков и караульных – я же так утонченно воспитан, – а потом, не видеть человеческого существа, которое удостоило бы меня слова или к которому я бы мог обратиться с словом; ежеминутно трепетать за то, что сам сделаешь, или что мне сделают, – вот почти единственные блага, которые палач у меня отнимет.
Ах! Все-таки это ужасно!
IV
Черная карета привезла меня сюда, в этот отвратительный Бисетр.
Издали это здание, пожалуй, не без некоторого величия: оно вытянулось на вершине холма и на известном расстоянии сохраняет кое-что из своего прежнего великолепия, смотрится королевским замком, но по мере вашего приближения дворец становится мазанкой. Отбитые зубцы оскорбляют глаз.
Какая-то дрянь и бедность тяготеет над этими королевскими фасадами: скажешь, пожалуй, что стены заразились проказой. Ни оконных переплетов, ни стекол в окнах – одни толстые железные решетки, к которым там и сям прилипло бледное лицо каторжного или сумасшедшего.
Вот жизнь вблизи.
V
Не успел я войти, как железные лапы овладели мною. Строгости увеличились: нет ни ножей, ни вилок за обедом; безобразный китель, нечто вроде холщового мешка с дырой, окутал мои руки; за мою жизнь отвечали. Я подал просьбу о пересмотре приговора. Может пройти шесть или семь недель в этих лишних проволочках, а нужно сохранить меня здравым и невредимым для Гревской площади.
Первые дни со мною обходились с отвратительною сладостью. Взгляды тюремщика чуют эшафот. К счастью, спустя несколько дней привычка взяла свое. Они смешали меня с другими заключенными в общей грубости и перестали обращаться со мною с тою непривычною вежливостью, которая всегда напоминала мне палача. Это еще не все: улучшения простирались дальше. Молодость, сговорчивость, внимательность тюремного священника, а главное, несколько латинских слов, с которыми я обратился к смотрителю и которых он не понял, доставили мне позволение раз в неделю гулять с другими заключенными и сняли с меня китель, в котором я был парализован. После долгих колебаний мне даже принесли чернил, бумаги, перьев и ночник.
Каждое воскресенье, после обедни, в известный час меня выпускают на тюремный двор. Там я разговариваю с заключенными. Нельзя же! Ребята они, впрочем, предобрые. Рассказывают мне свои проделки: волосы становятся у меня дыбом, но я знаю, что они хвастают. Учат меня говорить по-ихнему («колотить по наковальне», как они выражаются). Это целый язык, налепленный на общепринятый, нечто вроде отвратительного нароста, как, например, веред. Иногда вдруг странная энергия, ужасающая картинность: варенье на сковороде (тут – кровь на дороге), жениться на вдове (быть повешенным), как будто веревка на виселице вдова всех повешенных. Голова вора имеет два названия: «сорбонна», когда выдумывает, обсуждает, зачинает преступление; «пень», когда палач ее отсекает. А то и водевильный склад: тростниковый кашемир (корзина тряпичника), врун (язык), а потом везде, на всяком шагу, слова странные, таинственные, гадкие и грязные, взятые бог знает откуда: le taule (палач), la cône (смерть) la placarde (место казни). Ящеры и пауки какие-то. Когда слышишь этот язык, то воображаешь нечто грязное, запыленное – нечто вроде самого отвратительного отрепья, которое вдруг стали бы перетряхивать перед вами.
По крайней мере эти люди меня жалеют. Они одни. Тюремщики, номерные, ключари (я не сержусь на них) говорят и смеются и считают меня не более чем вещью.
VI
Я вот что выдумал.
Мне даны средства писать; почему ж бы и в самом деле не присесть за бумагу? Но что писать? Запертый в четырех стенах, голых и холодных, без свободы для ног, без неба для глаз, машинально день-деньской занятый от скуки медленным ходом того беловатого четвероугольника, который окошечко моей двери нарезывает на противоположной мрачной стене, и, как я уже сказал сейчас, один-одинешенек, с мыслью о преступлении и казни, об убийстве и смерти, – могу ли я что-нибудь высказать, я, которому больше нечего делать в этом мире? И может ли в этой измученной и пустой голове родиться что-нибудь достойное письма?
Почему же и нет? Если все вокруг меня монотонно и бесцветно, то во мне есть буря, борьба, трагедия? Разве мысль, овладевшая мною, ежечасно и ежеминутно не представляется мне все в новых формах, все более ужасною, более кровавою, чем ближе я к сроку? Почему бы не попробовать рассказать самому себе обо всем, что я испытываю насильственного и неизвестного в моем одиночестве? Сюжет, конечно, богатый. И как бы ни была коротка моя жизнь, но в муках, страхе и страданиях, которые ее наполнят с этого часа и до последнего, будет на что истратить это перо и истощить эту чернильницу.
Да и страдания… Единственное средство уменьшить их заключается в наблюдении за ними, и, описывая их, я развлекусь.
А потом, что бы я ни написал, таким образом, будет, может быть, небесполезно. Этот журнал моих страданий, час за час, минута за минуту, мука за муку, если только хватит сил моих довести его до часа, когда я физически буду не в состоянии продолжать его; эта история моих впечатлений, по необходимости неконченая, но по возможности полная, могут заключать в себе великое и глубокое поучение. В этом протоколе издыхающей мысли, в этой возрастающей прогрессии скорбей, в этой умственной анатомии осужденного может таиться не один урок для осуждающих. Чтение это, может быть, удержит их руку, когда им в другой раз придется бросить голову, которая мыслит, голову человека на то, что они называют весами правосудия! Может быть, им, несчастным, никогда не приходила на ум та медленная вереница пыток, которая таится в проворной формальности смертного приговора.
Останавливались ли они хоть когда-нибудь на этой едкой мысли, что в человеке, которого они отсекают, живет дух – дух, рассчитывавший на жизнь, душа, которая не располагала умирать? Нет. Во всем этом они видят только вертикальное падение треугольного ножа, и, конечно, уверены, что для осужденного не было ничего прежде, не будет ничего после.
Листки эти разуверят их. Напечатанные, может быть, когда-нибудь, они остановят хоть на несколько мгновений их ум на страданиях ума: их-то они и не подозревают. Они в восторге от того, что изобрели средство убивать людей без страданий тела. Но разве вопрос в этом? Что значит физическая боль в сравнении с моральной? Жалки и отвратительны законы, если они такие! Настанет время, и, может быть, эти мемуары, последние друзья несчастного, подвинут нас к нему…
Если только после смерти ветер не размечет по двору этих клочков бумаги, запачканных грязью, или не истлеют они на дожде, наклеенные в виде заплаты на разбитые стекла в сторожке тюремщика…
VII
Что ж мне-то в том, что эти строки могут быть некогда полезны другим, что они остановят судью, готового осудить, что они спасут несчастных, невинных или преступных от той агонии, на которую я осужден? Мне-то что? Я-то что выиграю? Мне отрубят голову, пусть рубят и другим! Мне что за дело? Неужели и вправду я мог думать о таких глупостях? Разрушать эшафот после того, как я войду на его подмостки! Прошу покорно, большая надобность.
Как! Солнце, поля, испещренные цветами, птицы, пробуждающиеся по утрам, облака, деревья, природа, свобода, жизнь – все это теперь не для меня?
Боже мой! Меня спасите, меня! Правда ли, что это невозможно, что должно будет умереть завтра, сегодня может быть, что это непременно будет? Боже мой! От этой ужасной мысли можно раздробить себе голову о тюремные стены.
VIII
Сочту, сколько мне осталось: три дня сроку после произнесенного приговора для подачи апелляции; неделя проволочек в уголовном суде, после чего «бумаги», как говорят они, отправляются к министру; две недели пролежат они у министра, который даже и подозревать не будет об их существовании, но который все-таки передаст их, как будто просмотренные, им, кассационному суду; там путешествия по разным столам, нумерация, запись на приход, потому что гильотина завалена работой, и каждый должен ждать своей очереди; две недели для рассмотрения, не учинена ли вам какая несправедливость; наконец, суд собирается, обыкновенно в который-нибудь четверг, отвергает массой апелляций с двадцать и всю кучу отсылает обратно министру, тот отсылает генеральному прокурору, а этот уже отсылает палачу (три дня); утром на четвертый день помощник генерального прокурора, повязывая галстук, рассуждает, что пора, дескать, покончить с этим делом. Тогда, если помощник экзекутора не дает какого-нибудь завтрака друзьям и ничто ему не помешает, приказ об экзекуции пишется, переписывается, заносится в журнал, отсылается, и на другой день с рассветом будет слышно, как строят помост на Гревской площади, а на перекрестках ревут охриплые голоса разносчиков афиш.
Всего шесть недель: девочка говорила правду, – но вот уже недель пять, а может быть, и целых шесть, не смею пересчитывать, что я сижу в этой келье в Бисетре, а мне кажется, что тому только три дня. Это было в четверг.