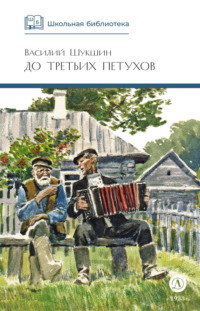Kitobni o'qish: «До третьих петухов»

Школьная библиотека

Художник П. Пинкисевич
Вступительная статья и составление В. Курбатова

© Шукшин В. М., наследники, 1963—1976
© Курбатов В. Я., наследники, вступительная статья, составление, 1998
© Пинкисевич П. Н., наследники, иллюстрации, 1998
© Оформление серии. АО «Издательство «Детская литература», 2024
Свой среди своих
Как только вспомню, как герои шукшинской сказки «До третьих петухов» – обитатели книжных стеллажей – смятенно слушали щебет молоденькой библиотекарши («Да нет… я думаю, это пшено. Он же козел… пойдем к Владику… Я знаю, что он баран, но у него «Грюндик»…) и решили, что она собирается в зоопарк, так поневоле думаю: а что эти почтенные книжные герои сказали бы сегодня не о библиотекарше даже, а о своих нынешних соседях по полкам? Обо всех этих «рабынях секса» и «лакомых кусочках», изображенных на обложках с подробностью физиологического атласа? И как чувствовал бы себя сам Василий Макарович в этом окружении? Что-то кажется мне, что каждое утро библиотекарши находили бы все эти цветистые «дьявольские соблазны» и «поцелуи на краю смерти» на полу – непременно бы он их ночью посталкивал. Или бы сам ушел из-за невозможности перекинуться словцом по-человечески.
А мы-то, мы на чьей стороне, если Шукшину в этом глянцевом хороводе может сегодня места не хватить, – издатели не издадут и библиотекари не закажут – зачем, если никто не спрашивает? Хорошо вот, школьная программа помнит и возвращает его детям. Ну, а без программы – удержали бы? Или вздохнули, что другие времена ждут других песен, да и уступили забвению?
Между тем дело здесь не в старении художника, а в самом состоянии народной души, народного сердца, национального ума. За дежурными разговорами про возрождение России мы успели подзабыть живого русского человека, который эту самую Россию и составлял. Да и не позабыли даже, а подменили исподтишка пустым словом, лубочной картинкой – и вот дивимся, что ничего у нас с новой жизнью не получается. Чтобы скрыть внезапно обнаружившуюся пустоту, стали этого русского мужика подальше во времени искать: одни – во временах Ивана Калиты и Алексея Михайловича, другие – в днях Александра Освободителя или Петра Столыпина. Свой недавний показался негодным для реформаторской переработки, слился в глазах обвинителей в какого-то безликого «колхозника», который своей отсталостью не давал преобразователям шагу ступить. А поскольку именно этого неудобного для социальных экспериментов мужика писала «деревенская литература» и именно в нем мы наконец после всех идеологических обмороков последних лет стали различать свои настоящие корни и во всех передрягах сбереженный живой голос традиции, то пришлось новым историкам литературы заодно и «деревенскую литературу» освистать, нарочито опорочить ее, как «казенную» и даже «поощряемую государством».
Для такой постыдной работы ума много не надо, и охотники нашлись скоро, но расплачиваться за эту открытую ложь придется всем – в том числе и самим иронистам, если они не успеют переменить отечества (у них это быстро). С бумажным мужиком много не наработаешь – все равно придется к реальному на поклон идти, а для этого его надо видеть и знать. Можно хлопотать о фермерстве, о частной собственности на землю, о новых принципах хозяйствования, но мужик-то все равно остается тот же – русский, со всем его непредсказуемым размахом, с его никуда не девшейся волей, с его ленью и неутоленной работоспособностью, с его хвастовством и его скромностью, пьянством и злом, бескорыстием и жадностью – со всем тем, что лучше, вернее, ярче, полнее всего написал Василий Макарович Шукшин.
Да и не написал он – не то это слово. Не будет ни обиды, ни неправды, если сказать, что он не был только писателем, хотя деревенская проза и числила его своим, и сам он себя по этому «ведомству» проводил. В том-то и секрет, и сила, и тайна, и чудо его жизни, что он писал, играл, ставил свои фильмы, ни на минуту не выводя себя на позицию только «автора», властителя текста или киноматериала. Он всем этим жил. Кажется, он автором-то только и был в то краткое мгновение, когда замысел еще только брезжил и горячил воображение, а как доходило до дела, то с первой строки и первого кадра он уже варился в середине действия, плача, смеясь, страдая, ненавидя, мучаясь от тоски и любви, непонимания и восторга.
Это как будто и вообще свойственно русским художникам – сбиваться на прямое участие в сочинении, но Шукшин даже в этом чудном ряду был очевидным исключением. Теперь уже несомненно, что он был явлением подлинно единственным, не знающим подобия ни в мировой, ни в русской практике. Писателями, актерами, режиссерами в одном лице были многие, но сжатой воплощенной мыслью, живой идеей был он один.
Не потому ли в каждой отдельной области он был как бы неполон и эту неполноту чувствовал. Да и зрители и читатели это знали и в книгах «дописывали» актера, а в актерских работах «дочитывали» писателя, все время как бы говорили себе: это еще что! Здорово, конечно, но вот еще послушайте, как он об этом пишет, или посмотрите, как он это играет или как он это снял… Для коллег во всех областях он как будто был немного дилетантом, и всяк из них норовил сузить его до одной профессии, к себе перетянуть. А смерть не дала.
Нам всем полегче, и мы подольше живем, потому что «свидетелями» умеем быть, не везде в участники суемся, кое-что и пропускаем. А он так и не научился этому житейскому искусству и, кажется, даже попытки не сделал выучиться, а сразу летел в самый клубок совершающегося и уже махал кулаками, кричал, срывал голос и изнашивал сердце, так что в 45 лет, когда он ушел, оно, по свидетельству врачей, было как у 80-летнего. Он пустил жизнь «в себя», и она взялась в нем за жаркое самоосмысление, пока не разорвала его сердца.
Это был очень народный способ существования – почему профессионалы и подозревали его в «дилетантизме», да и сам он, по примечанию дружившего с ним артиста Г. Буркова, был затаенно-неуверен и от неуверенности делался только резче и откровеннее. Мы-то вот тоже рядом с целым человечеством живем, а нет этого зрения, этой сорастворенности, при которой другой становится тобой и мучается в тебе, невысказанный, жжет тебя своей правдой, пока ты ее не выговоришь. Да и свою правду в себе не удержишь. Не оттого ли у Шукшина так часто спорят, хватают друг друга за грудки, доискиваются истины. Никаких пейзажей, никаких обстоятельных вступлений, словно и самому автору не терпится узнать, до чего договорятся герои, что им откроется. Встретились – и вперед!
Может быть, от этого и мерещится дилетантизм. Ждали «прозы», а оказались в уличной свалке или наедине со сбившимся человеком, который без стыда выкладывает все, как на исповеди. Тут страсть-то сродни страстям Достоевского. Только у Достоевского русский человек мается волей и уже как бы и лишнего у Бога спрашивает, «тварь дрожащую» в себе гонит, чтобы «право иметь». А у Шукшина он обороняется, от смерти себя бережет, не лишнего ищет, а глядит, как бы хоть свое отстоять, душу живую в общем унылом равнодушии не погубить.
А не узнали мы тень Достоевского, потому что уж больно «простовато» глядит шукшинский герой и слишком в нем еще много крепкой природной жизни и, в отличие от Достоевских сумерек, все будто в полдень происходит – летит и переливается, сверкает и поет, и все через край и вперебор. Да и, по традиции, у нас за мужиками иные, некрасовско-толстовские да тургеневские добродетели числились, а не доискивание жизненных смыслов.
«Ведь отчего так много дерьма в жизни: сделал один человек другому доброе дело, а тот завернул оглобли – и поминай как звали… А потом скулим: плохо жить!» – это Ефим Валиков из рассказа «Суд».
«…Ду ю спик инглиш, сэр? А как насчет картошки дров поджарить? Лескова надо читать, Лескова! Еще Лескова не прочитали, а уж… слюни насчет неореализма пустили. Лескова, Чехова, Короленку… Потом Толстого, Льва Николаевича», – а это «психопат» Сергей Иванович Кудряшов.
«Вообще грустно, дед. Почему так? Ничего неохота… как это… как свидетель. Я один раз свидетелем был: один другому дал по очкам… И вот сижу я на суде и не могу понять: а я-то зачем здесь?» – это Иван из рассказа «В профиль и анфас».
«Вот у тебя все есть – руки, ноги… <…> Но у человека есть также – душа. Вот она, здесь, – болит! – Максим показывал на грудь. – Я же не выдумываю! Я элементарно чувствую – болит». Это Максим Яриков («Верую!»).
Я нарочно выписываю именно эти косноязычные невнятности, это, на «интеллигентный взгляд», растительное страдание, которое вроде и страданием-то не назовешь, но это оно, оно. Гонит мужика тоска, гнетет «незаполненная», хлябающая душа. Все время какой-то зазор остается, злая пустота покоя не дает. Тонкости тут мало, но боль-то, может, и поострее интеллектуальной, потому что причины не знает и в слова не облекается (чеховскому-то да и Достоевскому страдальцу иногда довольно того, что он возьмет да и хорошо сформулирует свою боль и уж этим и развеет или хоть поослабит ее – красота-матушка по своему внутреннему милосердию спасет). А этим куда податься? Попали в какое-то «межеумье», и пошло-поехало. Мачеха-история, о которой они и думать не думают, выбила их из здравого порядка жизни, отняла наследованную жизнь. И вот они маются по тюрьмам, как Степка из одноименного рассказа или Егор Прокудин из если не читанной, то всеми виденной «Калины красной», и дерутся, и плачут, и никому вокруг не дают покоя. На месте не постоят. Все им мало, надо, чтобы сила и воля во весь размах, в полный русский простор.
Он это, он – простор наш, бескрайность русская горит в каждой шукшинской душе. Герой тоже, поди, всеми виденных «Печек-лавочек» не зря в конце в родных шукшинских Сростках, на родной его горе Пикете, сидит. Оттуда как раз всю Россию видать. Каждый год, бывало, я любил ездить на чтения для этого лучшего мига – встать там на вершине и поглядеть вокруг. Все его герои отсюда, с Пикета, все тут себе душу открывали и потом никак уже равного ничего не находили: все тесно. Тут бы лететь только, а жизнь все норовит в рамочку вставить, в быт запереть, в «моральный кодекс», выписанный на доску у колхозного правления.
Мы, к сожалению, как следует этой тоски шукшинских героев еще не поняли. Сами обманывали себя затхлой стабильностью и хоть предчувствовали, что долго так не протянется, но отсиживались, тянули, надеялись на спасительное «авось». А он уже знал, что в таком «межеумье» человеку не жить. Нас обманывала форма, «одежка» героев, чудачество и дурачество их. Мы вроде и знали, что дурак на Руси один правду говорит, но как-то всегда только к историческим «дуракам» и блаженным это относили, а на своих глядели снисходительно, как глядят «умные» и «знающие». А дело-то тоньше. Один умный европеец заметил, что Дон-Кихот – это великий человек, становящийся дураком из-за отсутствия цели. Вот ведь и шукшинские «дураки» – мающиеся без причины мужики, у которых душа болит, и несчетные его врали – от Пашки Колокольникова («Живет такой парень») до Броньки Пупкова («Миль пардон, мадам!») – не по душевному легкомыслию так выпадают из реальности. Они и врут-то потому, что старые связи в мире порвались, а новых они не чувствуют, и вот им скучно жить, нашей трусливой правды им мало. Такого вранья, пожалуй, ни на один язык не переведешь. Пустяк и анекдот останутся, а тайная воля уйдет. Останется пустомеля и чудак, а ненасытная душа, которая предпочтет в посмешищах походить, чем сдаваться пустой повседневности, пропадет. И как они еще счастливо врут. Вон Пашка Колокольников поглядывает на свою спутницу:
«– По-французски говорите?
– Нет, а что?
– Так поболтали бы… – Пашка закурил.
– А вы что, говорите по-французски?
– Манжерокинг.
– Что это?
– Значит, говорю…»
И Бронька Пупков идет стрелять в Гитлера: «В руке у меня большой пакет, в пакете – браунинг, заряженный разрывными отравленными пулями. Подходит один генерал, тянется к пакету: давай, мол. Я ему вежливо ручкой – миль, пардон, мадам, только фюреру. На чистом немецком языке говорю «фьюрер»…»
Они что – не знают своего истинного положения? Со стороны себя не видят? Да нет, знают и видят. А вот подойдет час – и опять поднимет их счастливая волна, и они вознесутся над родной деревней и проживут чужую, неслыханную, ослепительную жизнь, и хоть на краткий миг утолят рвущуюся на простор душу. А не представится случай соврать – споют с такой силой и звоном, что вся душа в песне изойдет. Вспомните-ка, ведь у него чуть не в каждом рассказе и каждом фильме – песня, как в мучительном рассказе «Степан», где «под песню охота как-нибудь вывихнуться, мощью своей устрашить, заорать, что ли, или одолеть кого-нибудь».
И не то же ли томление неполноты жизни рождает несчетных шукшинских «чудиков» вроде Андрея Ерина, который на последние деньги купил микроскоп, разглядел микробов в крови и вознегодовал на «заговор» ученых, скрывающих это: «Не хотят расстраивать народ. А чего бы не сказать? Может, все вместе-то и придумали бы, как их уничтожить. Нет, сговорились и молчат. Волнение, мол, начнется» («Микроскоп»). И как назвать Моню Квасова, который изобрел вечный двигатель и «…даже не испытал особой радости, только удивился: чего же они столько времени головы-то ломали!» («Упорный»). И от одной ли скуки «забуксовал» совхозный механик Роман Звягин, услышав, как сын учит гоголевскую «птицу-тройку», и потеряв покой оттого, что в тройке-то, оказывается, летит Пал Иваныч Чичиков, и это перед ним «косясь, постораниваются» народы и государства. Чего бы Звягину до Пал Иваныча, а вот «забуксовал», и всё.
Тихие, занозистые, злые и беспечные – все они как-то неуловимо походят друг на друга, будто братья. Все заводные и талантливые. Эта похожесть в том, что все они болеют его, шукшинской, мыслью, живут его талантом, его волей и нетерпением. По существу, он писал непрерывную автобиографию страждущей своей души и мысли, допрашивал мир о его правилах и не хотел согласиться с социальным загоном, с узкой «нишей», куда общество для своего удобства заталкивает человека. Кажется, он эти путы чувствовал непрерывно и рвал их враньем, чудачеством, прямым выяснением, дракой.
«…Стеньку застали врасплох. <…> Он любил людей, но он знал их. Он знал этих, которые ворвались, он делил с ними радость и горе. <…> Когда пришлось очень солоно, они решили выдать его. <…> Рухнул на колени грозный атаман, и на глаза его пала скорбная тень.
„Выбейте мне очи, чтобы я не видел вашего позора“, – сказал он».
Шукшин понимал Стеньку и понимал Васёку, который этого Стеньку вырезал из дерева ночами. «У Васёки перехватывало горло от любви и горя. <…> Он любил свои родные края, горы свои, Захарыча, мать… всех людей. И любовь эта жгла и мучила – просилась из груди. И не понимал Васёка, что нужно сделать для людей, чтобы успокоиться».
И Василий Макарович любил горы свои, родные края, мать и всех людей и, как Васека, не знал, что сделать для них – «чтобы успокоиться». И в неосуществленном, так и не снятом «Степане Разине» воскрешал во всей силе и первоначальности неуправляемую, не подчиняющуюся закону, мятущуюся и измученную, вольную и грозную народную душу, раздувал ее из-под уже затянувшего ее пепла, опять готов был устыдить расслабленного человека и искусить его могучей тоской по силе и призванности. Можно только предполагать, до какой степени «безжалостности» и «обострения» мог он возвысить свое творчество. Сердце указало этот предел – разорвалось ночью так стремительно, что не успела рассосаться таблетка валидола под языком. Как всегда, до предела он довел прежде всего себя.
Несколько лет назад В. Г. Распутин горько и верно писал: «Что-то мы не сделали после Шукшина, что-то необходимое и важное, в чем-то, за что он бился, мы его не поддержали». Теперь по всему строю выпотрошенной, лишенной содержания жизни видно, что не только не поддержали, а вообще устремились в совершенно иную сторону, от которой он бежал и с которой боролся – бился, как сильнее и вернее сказал Распутин. Пошлость и духовное истощение жизни, стремительно расходящаяся трещина между человеком и человеком, которые так мучили и злили его, стали вдруг не только нестыдны и неопасны, а законны и поощряемы. Он верил, что все неустройства и сбои человеческой природы есть только измена настоящему существу жизни, и простодушно надеялся на опамятование человека, на выздоровление общества. Этой святой верой проникнуто каждое его слово.
Вот, для примера, во всем памятных «Печках-лавочках» как много он об учителях говорит – и профессоровыми устами, и сына профессорова, и сам Иван норовит ввернуть словцо. А для чего все это? Почему так настойчиво? А это он правительству объясняет, что надо сделать. Верит, что услышат и поймут, что там только не знают и не видят, а вот услышат – и переменят. Он доверяет искусству с деревенской чистотой и даже на минуту не может допустить, что один человек может что-то не делать для другого просто нарочно, от скуки, от неприязни, наконец, не делать, и всё. Это уж потом, после равнодушия больницы, описанной им в страшном рассказе «Кляуза», он почувствует всю гибельную низость подступающей новизны, где до человека уже не будет дела, поймет, что мы исподволь, почти незаметно глазу, но необратимо изменили себе…
Он приходил напоследок показать, что такое русский человек в его замысле, в его Богом данной святой полноте, и мы еще успели почувствовать это и в час его смерти на мгновение вздрогнули, увидев, чем бы могли быть и что предали в себе, какая даль еще была возможна в нас! И, как будто в отместку себе, потом с удвоенной стремительностью покатились в равнодушие, в предательство истории, в наживу и уничтожение остатков нравственных институтов, в небывалое по размаху разрушение.
Теперь он не мог бы выжить и дня. Такой мы стали страной для своих лучших детей. И теперь нам не дождаться рождения другого такого нашего сына и брата, потому что уничтожена почва для появления искреннего человека. Он до смертного часа оглядывался на Алтай, на милые Сростки, заговаривал себя возможностью возвращения: «Я думаю, что русского человека во многом выручает сознание этого вот – есть еще куда отступать, есть где отдышаться, собраться с духом», и грел, грел себя мыслью об этом отступлении: «Я живу с чувством, что когда-нибудь я вернусь на родину навсегда». Мы и сами следом за ним, следом за врачевавшими нас «деревенщиками» надеялись, что ничего не потеряно, что где-то ждут нас родные корни, крепкие и живые, чистые и невредимые, пока не очнулись посреди чужой страны, чужого языка, чужих нравственных законов, как в изгнании, и теперь перечитываем его со странным чувством: неужели это было с нами, в нашей России, и это мы были таким талантливым народом с такой становящейся, летящей душой?
Мы относились к нему как к младшему брату – непутевому, заводному, всякую минуту готовому загнать нас в сомнительную ситуацию, из которой неизвестно, как выпутываться, но чистому душой и оттого особенно любимому. Мы благодарили его за то, что он доверчиво обнаруживал наше лучшее, позволял не стыдиться того, что мы торопились загородить «воспитанием» и комплексующей оглядкой на чужое суждение, на скверно понятую нами городскую культуру, за которой уже маячила «культура рыночная». Увы, всем последующим поведением мы доказали, что хватило нас ненадолго, что не устояли мы на шукшинской ноте, не помогли ему, не поддержали и в конце концов оказались все-таки духовно повреждены унизительной оглядкой на «цивилизованные страны»; и Шукшина умалили, столкнув в милое, но уже невозвратное предание, и сами своротили с живого, единственно плодотворного наследованного пути.
Есть в воспоминаниях шукшинского друга Юрия Скопа пронзительный и, как кажется, глубоко символический эпизод:
«На „Странных людях“… снималась массовка – проводы гармониста в армию. В фильм он не попал, но дело не в этом…
День выдался самое то… Человек сто, а может, и поболе вышло на расставанье. С песней… Живет в народе такая – «Последний нонешний денечек». Мотор! Пошли… Головная актерская группа вроде бы ладно взяла песню, а хвост массовочный не тое… Позабыли, оказалось, песню-то… Дубль, другой… Макарыч яриться начал… Пленка горит, а в результате – чепуха сплошная. Вот тогда и взлетел Макарыч на пригорок, чтобы все его видели, остановил яростным взмахом движение и – как рявкнет:
– Вы што?! Русские или нет? Как своих отцов-то провожали?! Детей! Да как же это можно забыть? Вы што?! Вы вспомните! Ведь вот как, братцы…
И начал:
– „Последний нонешний денечек…“ – зычно, разливно, с грустцой и азартом бесшабашным за всю массовку вложился в голос. Откуда что берется?..
И вздохнула деревня и прониклась песней…
Когда расходились, сам слышал, как мужики и женщины толковали: „Вот уж спели так спели! Ах…“»
Кажется, мы все спели с ним последний раз. Песня кончилась. И уже некому устыдить нас: «Да как же это можно забыть?!» И некому отозваться…
Разве устанут от чужого голоса и чужого мира читатели вот этой книжки и памятью рода и любви, терпеливой памятью крови стряхнут наваждение и вспомнят, чьи они дети, и Василий Макарович, навеки дарованный сын и брат наш, улыбнется оттуда: «Жить будем…»
Валентин Курбатов