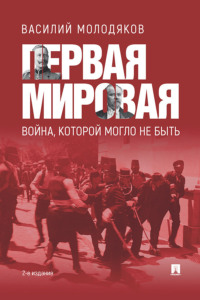Kitobni fayl sifatida yuklab bo'lmaydi, lekin bizning ilovamizda yoki veb-saytda onlayn o'qilishi mumkin.
Kitobni o'qish: «Первая Мировая: война, которой могло не быть»
…Так и земные племена
Не чуют пушечных раскатов,
Когда в портфелях дипломатов
Уже объявлена война.
Марк Тарловский
Издание второе, исправленное и дополненное
Автор:
Молодяков В. Э., кандидат исторических наук, доктор политических наук, профессор Университета Такусёку (Токио), автор более 40 книг.
Изображения на обложке: Кайзер Германии Вильгельм II, фотограф Т. Х. Фойгт, 1902 г.; Раймон Пуанкаре, Президент Французской Республики, 1913 г.; Арест подозреваемого в Сараево, 1914 г.
В оформлении макета использованы иллюстрации из собрания автора и с ресурса wikipedia.org

ebooks@prospekt.org
© Молодяков В. Э., 2012
© Молодяков В. Э., 2025, с изменениями
© ООО «Проспект», 2025
Пролог
Человечество опять переживает период потрясений и кризисов, который грозит обернуться глобальным Смутным временем. На наших глазах на планете меняются векторы силы и возникают новые центры политической и экономической мощи, амбициозные и порой агрессивные. Двуполярный в эпоху холодной войны, а затем однополярный мир превращается в многополярный и чреват нестабильностью. Аналитики с тревогой отмечают, что самые проблемные регионы земного шара становятся источником напряженности далеко не в первый раз.
Целому ряду историков приписывают афоризм: «История ничему не учит, но больно наказывает за ее незнание». История ничему не учит, потому что никогда не повторяется в точности, но наказывает тех, кто, не помня событий прошлого, наступает на те же грабли – будь то вожди или целые народы. XX в. преподал человечеству немало трагических уроков, но уже первые годы XXI столетия показывают, что проблема «граблей истории» остается актуальной. Перед лицом новых вызовов следует научиться хотя бы не наступать на старые «грабли».
Первую мировую войну 1914—1918 гг. на протяжении четверти века называли просто «мировой», надеясь, что она же будет и последней. Сразу после ее начала Валерий Брюсов писал:
Покрыв столицы и деревни,
Взвились, бушуя, знамена.
По пажитям Европы древней
Идет последняя война…
Пусть рушатся былые своды,
Пусть с гулом падают столбы —
Началом мира и свободы
Да будет страшный год борьбы!
Валерий Яковлевич обладал не только поэтическим, но и политическим даром. Однако здесь он ошибся: война не только не стала «началом мира и свободы», но открыла собой эпоху мировых конфликтов и диктатур. С нее, по верному, но гораздо более позднему замечанию Анны Ахматовой, «начинался не календарный – настоящий двадцатый век». Впрочем, ошибся не только Брюсов – последствий случившегося тогда не предвидел никто.
О причинах и происхождении Первой мировой войны написано много, однако уроки этого – применительно к опыту каждой страны – не осознаны в полной мере. Ни одна из конфликтующих сторон не признавала свою ответственность, перекладывая ее на плечи противников, а порой и союзников. С окончанием войны победители объявили виновниками побежденных, записав в статье 231 Версальского «мирного» договора: «Союзные и Объединившиеся Правительства заявляют, а Германия признает, что Германия и ее союзники ответственны за причинение всех потерь и всех убытков, понесенных Союзными и Объединившимися Правительствами и их гражданами вследствие войны, которая была им навязана нападением Германии и ее союзников».
Правительство республиканской Германии отказывалось подписывать кабальный договор (ему надо посвятить отдельную книгу), но было вынуждено пойти на это под угрозой голодной смерти едва ли не всего населения в результате блокады – победители дали понять, что не остановятся ни перед чем. Аналогичные положения были внесены в тексты договоров с другими Центральными державами, как называли блок Германии, Австро-Венгрии и Болгарии. Ему предшествовал Тройственный союз монархов Берлина, Вены и Рима, но Италия с началом мировой войны отказалась поддержать союзников, а затем перешла во враждебный лагерь Тройственного согласия (Англия, Франция, Россия), именовавшегося также «Антантой» (от французского entente – согласие).

Антанта. Российский плакат 1914 года
Версия победителей вошла в официальные документы и справочные издания, школьные программы и университетские курсы, но оказалась недолговечной. После революций 1917—1918 гг. в России, Германии и Австро-Венгрии новые, социалистические правительства поспешили предать гласности как можно больше секретных документов, чтобы свалить вину на предшественников – свергнутые династии Романовых, Гогенцоллернов и Габсбургов. Эффект оказался намного сильнее, чем они думали: выяснилось, что творцы Версальского «мира», в первую очередь Франция и Англия, а также «жертвы агрессии», включая Сербию, не только не безгрешны, но несут большую ответственность за начало мировой бойни. В развязывании войны виновны все главные фигуранты – каждый по-своему.
За «версальским» тезисом об исключительной ответственности Берлина и Вены стояли государственная власть и пропагандистская машина победителей, а также необходимость побежденных считаться с новыми реалиями. За историками «без чинов», которые назвали себя «ревизионистами» (дальше я употребляю этот термин без кавычек1) – извлеченные из архивов документы, твердо установленные факты, здравый смысл и жажда справедливости. Тон задали немцы, что вполне объяснимо, и американцы, задумавшиеся, ради чего их страна в 1917 г. вмешалась в «европейскую войну». Исследования Фридриха Штиве и Макса Монжелá, Альфреда фон Вегерера и Германа Лютца, Сиднея Фея и Гарри Барнеса в 1920-е гг. спровоцировали невиданную в мировой историографии дискуссию. В нее вмешались не только ученые, но генералы, политики и дипломаты – прежде всего, сами участники событий, поспешившие приняться за мемуары, – журналисты и педагоги, любители сенсаций, искатели славы и сумасшедшие. Аргументацию ревизионистов развили и дополнили французы Альфред Фабр-Люс, Альчид Эбрей и Жорж Демарсьяль, русские Михаил Покровский и Николай Полетика, эмигрировавший в США англичанин Френсис Нейлсон. Дольше всех «держались» британцы, но в первой половине 1930-х гг. точка зрения ревизионистов возобладала во всем мире. Говорить об исключительной ответственности Германии за войну и о невиновности ее противников стало как-то неудобно.
Ситуация начала меняться к концу 1930-х гг., когда нацистский Третий рейх встал на путь активной ревизии версальской системы, прибегая не только к угрозе силы, но и к ее применению. Начало новой войны в Европе в сентябре 1939 г. вызвало к жизни очередную дуэль пропагандистов и дипломатов по вопросу о том, кто виноват в случившемся. Побочным эффектом дискуссий о причинах Второй мировой войны стал пересмотр точки зрения на происхождение Первой мировой. После 1945 г. на Германию и ее союзников возложили всю ответственность за Вторую мировую, а заодно – и за Первую. Спорить с этим – по причинам сугубо политическим – стало намного труднее, чем в двадцатые годы. На презумпции виновности Германии основаны даже лучшие работы советских историков и их учеников уже в наши дни.
Столетие начала Первой мировой войны побуждало снова обратиться к ее причинам и урокам, отказавшись от навязанных идеологических схем и пропагандистских догм, не говоря о прямых фальсификациях. Однако именно они продолжали господствовать над документами и фактами, особенно в СМИ и заданном ими массовом сознании. Исправить эту ситуацию вряд ли получится, но стараться надо.
Документы далекого времени говорят сами за себя, поэтому в книге будет много цитат. Писатель и ученый Юрий Тынянов скептически заметил, что «документы порой врут, как люди», имея в виду, что письма и дневники могут оказаться столь же недостоверными, как и позднейшие мемуары. Помня об этом предостережении, я, подобно большинству историков, отдаю предпочтение непосредственным свидетельствам эпохи и результатам исследований ученых и почти не использую мемуары участников событий. Всем им приходилось оправдываться слишком во многом. Переиздания этих книг в изобилии стоят на полках магазинов и библиотек, а серьезных, не ангажированных и в то же время рассчитанных на широкого читателя исследований по данной тематике почти нет.

Манифест Николая II об объявлении войны Германии
Автор лучших отечественных работ о возникновении Первой мировой войны Николай Полетика, имя которого будет постоянно упоминаться на этих страницах, разъяснил в предисловии к одной из своих книг: «Под часто встречающимися выражениями «Германия», «Франция», «Англия» и т. д. следует понимать германский империализм, французский империализм и т. д., под выражениями «Вена», «Берлин», «Париж», «Лондон», «Петербург» и т. д. – правящие круги австро-венгерского, германского, французского и т. д. империализма или же австро-венгерское, германское, французское, английское и т. д. правительства». Не пряча правящие круги царской России за вынужденным в прошлые времена «и т. д.», я следую примеру Полетики и прошу читателей помнить об этом.
Именно пример Первой мировой войны, которую развязала горстка людей, обладавших почти неограниченной властью, показывает, что, говоря о вине или ответственности Германии или Франции, России или Англии, мы имеем в виду не страны и, тем более, не народы, которым не нужна братоубийственная бойня, но только их правящие круги. С них и спрос. Возможность войны определяется сложной совокупностью политических, экономических, социальных и даже культурных процессов. Неизбежной ее делают конкретные люди, которых в данном случае можно перечислить практически поименно.
Глава первая
Сербия: драма национализма
Действующие лица в Белграде и Сараево:
Король Петр I Карагеоргиевич
Принц-регент Александр
Премьер-министр и министр иностранных дел Никола Пашич
Генеральный секретарь МИД Славко Груич
Начальник разведки генштаба полковник Драгутин Димитриевич
Министр просвещения Люба Иованович
Российский посланник Николай Гартвиг
Российский поверенный в делах2 Василий Штрандтман
Российский военный агент (атташе) полковник Василий Артамонов
Австрийский посланник барон Владимир Гизль
Военный губернатор Боснии и Герцеговины генерал Оскар Потиорек
Заговорщики: Милан Циганович, Войя Танкосич, Владимир Гачинович, Гаврило Принцип и другие.
«– Убили, значит, Фердинанда-то нашего, – сказала Швейку его служанка». Этой фразой начинается бессмертный роман Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка». Швейк, чешский подданный Австро-Венгерской империи, попытался отшутиться, что, дескать, обоих его знакомых Фердинандов ни чуточки не жалко.
«– Нет, эрцгерцога Фердинанда, сударь, убили. Того, что жил в Конопиште, того толстого, набожного…
– Иисус Мария! – вскричал Швейк. – Вот-те на! А где это с господином эрцгерцогом приключилось?
– В Сараеве его укокошили, сударь. Из револьвера. Ехал он со своей эрцгерцогиней в автомобиле…
– Скажите на милость, в автомобиле! Конечно, такой барин может себе это позволить. А наверно, и не подумал, что автомобильные поездки могут так плохо кончиться. Да еще в Сараеве! Сараево это в Боснии… А подстроили это, видать, турки. Нечего нам было отнимать у них Боснию и Герцеговину».
За легкомысленным разговором скрывался факт исключительного, как оказалось, значения. 28 июня 1914 г.3 в городе Сараево, столице австро-венгерской провинции Босния, гимназист Гаврило Принцип, серб по национальности (тут Швейк ошибся!), имевший австрийское подданство, застрелил эрцгерцога (наследника престола) Франца-Фердинанда, племянника императора Франца-Иосифа I, и его жену герцогиню Гогенберг (урожденная графиня София Хотек). Убийца и его сообщники были сразу же схвачены полицией, которая с трудом предотвратила расправу толпы над ними. Историю Первой мировой войны принято начинать с этого дня.

Арест подозреваемого в Сараеве. 1914
Для последней четверти XIX и начала XX в. убийства коронованных особ, глав государств и правительств революционерами-террористами не были редкостью. В 1881 г. от их рук пал российский император Александр II, в 1894 г. – французский президент Сади Карно, в 1898 г. – австрийская императрица Елизавета (жена Франца-Иосифа), в 1900 г. – итальянский король Умберто I, в 1911 г. – российский премьер Петр Столыпин. Однако за сараевским убийством виделась международная интрига, которая сразу сделала его из ряда вон выходящим событием.
Летом 1913 г. все ведущие газеты мира отмечали 25-летие пребывания на престоле кайзера Вильгельма II. Та самая пресса, которая через год стала называть его «поджигателем войны», «кровавым тираном» и «антихристом», прославляла германского императора как мудрого и просвещенного правителя, поборника мира и гаранта спокойствия в Европе. Журналисты писали, что Старый Свет четверть века живет без войн благодаря политике кайзера: когда надо – решительной, когда надо – взвешенной и осторожной. Действительно, после франко-прусской войны 1870—1871 гг., закончившейся провозглашением Германской империи и тяжелым для побежденной Франции Франкфуртским договором, державы Европы не вели междоусобных войн.

В отличие от большинства монархов, Вильгельма II (в центре, с тростью) часто видели в штатском. Собрание В.Э. Молодякова
Исключение составлял Балканский полуостров, но его страны занимали обособленное положение в европейской Большой политике, выступая в качестве ее объекта, а не субъекта. «Между восточными и западными делами всегда проходила демаркационная линия», – охарактеризовал эту ситуацию французский политолог Альфред Фабр-Люс. Балканы стали ареной борьбы мусульманской Османской империи, которую еще российский император Николай I назвал «больным человеком Европы», православной России, выступавшей в качестве защитницы «порабощенного славянства», и католической Австрии, которая первой, в начале XVIII в., пришла на помощь сербам, однако славяне в державе Габсбургов считались гражданами второго сорта.
В результате поражения Турции в войне с Россией 1877—1878 гг. Сербия из автономии в составе Османской империи (с 1815 г.) превратилась в независимое королевство, Болгария получила автономию и статус княжества, Австрия оккупировала провинции Босния и Герцеговина, населенные в основном славянами. Территориальные приобретения сделали Россия (Карс, Ардаган, Эрзерум и Батум), Англия (остров Крит), Черногория, добившаяся освобождения от османского ига еще в конце XVIII в., и Румыния, появившаяся на карте Европы в 1859 г. как Объединенное княжество Молдавии и Валахии.
Россия «призвала балканские народы к самостоятельному политическому существованию», как изысканно выразился министр иностранных дел Сергей Сазонов, однако ее влияние в регионе было небезусловным. Первым князем Болгарии стал германский принц Александр Баттенберг, племянник российской императрицы Марии Александровны, жены Александра II. Однако его правление, ознаменованное схваткой Петербурга, Вены и Берлина за влияние в Софии, закончилось водворением в 1887 г. на престоле немецкой династии Саксен-Кобург-Гота при доминировании антирусской партии революционного националиста Стефана Стамболова. Со временем русско-болгарские отношения нормализовались, но София осталась союзницей Берлина. Болгария претендовала на гегемонию на Балканах в качестве главного наследника слабеющей Турции, в чем ее интересы постоянно сталкивались с сербскими, порождая бесконечные конфликты и войны.

Король Александр Обренович
На сербском престоле водворилась династия Обреновичей, проводившая проавстрийскую политику. Отношение Вены к Белграду в эти годы Николай Полетика удачно назвал «политикой золотой клетки». То, как это произошло и что за этим последовало, показал американский историк Сидней Фей:
«Несчастьем для сербского народа было то, что в начале движения за национальную независимость, в дни Наполеона, у него оказались не один, а два национальных вождя. Вместо одного сильного человека, руководящего движением и образованием прочной династии, оказалось два соперника Кара Георгий (известный в России как Георгий Черный. – В.М.) и Милош Обренович. Со времени убийства первого в интересах второго в 1817 г. несчастная страна страдала от вражды этих соперничающих семейств, сопровождавшейся рядом дворцовых переворотов и насильственных смен династий. Эта вражда достигла своего апогея в 1903 г. Ночью 11 июня группа заговорщиков, состоявшая главным образом из офицеров сербской армии, ворвалась в королевский дворец в Белграде, вытащила короля Александра Обреновича и его не пользовавшуюся симпатиями народа жену из места, где они укрылись, и зверски убила их. Белград ликовал; колокола церквей звонили; город расцветился флагами, и законодательное собрание единодушно благодарило убийц за их дело. Петр Карагеоргиевич, внук человека, убитого почти век тому назад, не принимавший непосредственного участия в заговоре, извлек выгоду из этого события и занял престол под именем Петра I. Это отвратительное преступление и милости, оказанные виновникам его, задели чувства благопристойности коронованных особ Европы. Большинство из них вскоре отозвало своих представителей из Белграда в знак неодобрения».

Убийство короля Александра Обреновича и королевы Драги. Рисунок. 1903
«Об этом заговоре знали одинаково и в Вене, и в Петербурге и дали ему совершиться, – утверждал Полетика в 1930 г. в книге «Сараевское убийство». – Почему? Австро-Венгрия – потому что король Александр Обренович своим произволом и угодничеством перед Австрией настолько скомпрометировал себя в политических кругах Белграда и среди офицерства, что дальнейшее пребывание его на троне как австрийского агента было нецелесообразно. Наоборот, в смене династии она видела в лучшем случае предлог для вмешательства в сербские дела, в худшем – воцарение нового человека, который заменит короля Александра в должности австрийского агента. Для России, с 1885 г. вытесненной из Болгарии и, в силу этого, с обидой за личную неудачу и с завистью смотревшей на успехи австрийцев по укрощению Сербии, смена династий тоже представляла некоторые выгоды. Во-первых, уход австрофилов Обреновичей и замена их Карагеоргиевичами внушал надежду превратить Карагеоргиевичей в своих агентов и этим парализовать влияние австрийцев в Сербии. Во-вторых, связавшись с радикалами, можно было даже использовать Сербию для борьбы против Австрии на Балканах. Вот почему дворцовый переворот, о котором говорили совершенно открыто не только в Сербии, но и на всех европейских дипломатических перекрестках за несколько месяцев до его совершения, был выполнен заговорщиками без особых политических осложнений».
Новый режим, пользовавшийся популярностью – точнее, использовавший непопулярность Обреновичей, – начал политику возрождения национального духа и реанимации идеи «Великой Сербии», которая в эпоху Стефана Душана в XIV в. простиралась от Дуная почти до Коринфского залива и от Эгейского моря до Адриатики.

Принц-регент (позднее король) Александр Карагеоргиевич с женой. Официальный портрет
Как отметил Фей, «за время, прошедшее от тех давно минувших дней и до десятилетий, непосредственно предшествовавших мировой войне, когда сербские националисты начали мечтать снова расширить свои границы до пределов «старой Сербии» или даже еще дальше, сербский народ долгие годы страдал от притеснений и лишений. В Витов день (28 июня. – В.М.) 1389 г. армия сербов, албанцев и хорватов понесла страшное поражение на Косовом поле и была сметена турецким ураганом. Но тут же, на поле сражения, сербский герой Милош Обилич проник в палатку победоносного султана Мурада и поразил его как ненавистного притеснителя славянских народов. Таким образом, косовская годовщина стала великим днем в сербском календаре: Витов день был днем скорби о национальном поражении 1389 г. и днем радости как память об убийстве жестокого иноземного притеснителя». В 1914 г. австрийского эрцгерцога убили именно в Витов день!

Король Петр Карагеоргиевич. Британская карикатура. 1913. Собрание В.Э. Молодякова
В первые годы царствования Петра Карагеоргиевича политика Белграда повернула от Вены в сторону Петербурга, что отвечало интересам нарождавшейся национальной буржуазии и радикальной интеллигенции. Кризис в отношениях с Австрией начался с «таможенной войны» (Сербия, как и сейчас, не имела выхода к морю), в результате которой на сербских рынках усилились позиции русских и немцев, и закончился заключением таможенного союза с Черногорией и Болгарией. Правящие круги Петербурга увидели в этом шанс приблизиться к своей заветной мечте – контролю над Константинополем (исторический Царьград, нынешний Стамбул) и проливами Босфор и Дарданеллы, ведущими из Черного моря в Средиземное через Мраморное. Ответным ходом Австрии стало официальное присоединение к своей территории осенью 1908 г. Боснии и Герцеговины, включая город Сараево, и получение согласия России на эту акцию.

Книга Николая Полетики «Сараевское убийство» (1930) впервые приподняла завесу тайны над ним для русского читателя. Собрание В.Э. Молодякова
«Что вызвало аннексию? – задал резонный вопрос Полетика. – Пока эти провинции находились под национальной властью турок, Сербия могла надеяться на присоединение их к себе в случае удачной войны с Турцией. Аннексия Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией клала этим надеждам конец: только распад Австро-Венгрии в результате революции или войны мог осуществить национальное объединение южнославянских народностей. Строго говоря, Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину не у Турции, а у Сербии. Австрия уже прекрасно отдавала себе отчет, что Сербия является послушным агентом России и в любую минуту по ее наущению может «обидеться» и начать войну». Однако Вена получила две провинции, оставив Петербург с абстрактным обещанием посодействовать в решении вопроса о проливах. Министр иностранных дел Александр Извольский понял, что «сдал» австрийцам Боснию и Герцеговину в обмен на «журавля в небе», но было поздно.
В Белграде случившееся восприняли как национальную катастрофу и начали готовиться к войне с Австрией, рассчитывая привлечь на свою сторону великие державы. Сербское руководство заявило протест против аннексии, потребовало территориальных или экономических компенсаций и попыталось побудить к активным действиям Россию, куда отправились наследник престола принц Георгий и премьер-министр Никола Пашич, лидер умеренно русофильской Радикальной партии. Пашич сообщил в Белград слова царя: «Ваше дело правое, но сил недостаточно. Вопрос Боснии и Герцеговины может быть решен только войной». Однако Вена категорически отказалась удовлетворить любые претензии, а Париж и Лондон не собирались вмешиваться в конфликт на Балканах, который неизбежно превратился бы в общеевропейский.

Никола Пашич
10 октября постоянный заместитель министра иностранных дел Великобритании сэр Чарльз Гардиндж заявил сербскому поверенному в делах Славко Груичу: «Австрийский посол просил меня повлиять на вас, чтобы вы перестали готовиться к войне. В продолжение этого, но исключительно по собственной инициативе, мы искренне рекомендуем вам проявить спокойствие и избежать авантюр, последствия которых могут быть непредсказуемы». Сделав предостережение, британский дипломат добавил, что не считает требования Белграда о компенсации чрезмерными, но «сомневается в том, что австрийские обещания или гарантии хоть чего-то стоят».
Пятью днями ранее сам Извольский предостерег сербского посланника в Париже Миленко Веснича: «Вам нечего и думать удалить Австро-Венгрию из Боснии и Герцеговины силою оружия. С другой стороны, мы, русские, не можем начать войну с Австрией из-за этих провинций… В действительности вы ничего не теряете, а кое-что приобретаете – нашу поддержку. Я уверен, что сербское население в Боснии и Герцеговине будет продолжать, как до сих пор, культурную работу во имя своего возрождения, и раз национальный дух в них пробужден, их никогда нельзя будет лишить национального облика». Через неделю в Лондоне Груич записал слова Извольского о том, что «аннексия дала новый импульс национальному духу у нас (в Сербии. – В.М.) и среди сербов за пределами королевства, по крайней мере, объединив нас морально».
«То есть антиавстрийская пропаганда в этих провинциях, руководимая из Белграда, пусть расширяется и растет!» – перевел Полетика речи русского министра с дипломатического языка на язык практической политики. «Сербам Извольский продолжал оказывать тайное поощрение, – писал Фей, – советуя им готовиться к более счастливому будущему, когда они смогут с русской помощью рассчитывать осуществить свои притязания. Он действительно никогда не рассматривал аннексию Боснии и Герцеговины как окончательное решение вопроса, но считал сам и побуждал сербов считать их сербской Эльзас-Лотарингией. Для освобождения этих провинций все сербы и в Сербии, и в Австро-Венгрии должны продолжать свои тайные приготовления». Сравнение с двумя провинциями, которые Франция была вынуждена уступить Германии в 1871 г., говорит само за себя – именно их возвращение лежало в основе французской мечты о реванше.
Поначалу ни Сербия, ни Россия не признали аннексию двух провинций. Когда кризис зашел слишком далеко, на стороне Австрии выступила ее главная союзница – Германия, ранее не вмешивавшаяся в действия Вены (этот сценарий, с намного худшим исходом, повторился в июле 1914 г.). В начале января 1909 г. Берлин предложил Петербургу признать «совершившиеся факты» и «использовать все имеющиеся в его распоряжении средства влияния на белградский кабинет». Французский посол в России вице-адмирал Шарль-Филипп Тушар рассказал своему будущему преемнику Жоржу Луи: «Германия не говорила России: «Если вы не уступите в сербском вопросе, я нападу». Она лишь сказала: «Если вы не уступите, Австрия завтра вторгнется в Сербию». Демарш Германии показал Извольскому, что он слишком сильно натянул веревку, и он уступил».
Любезный по форме, но уклончивый по содержанию ответ Петербурга – понимая свою неготовность к войне, правящие круги России решили соблюдать нейтралитет – был признан в Берлине неудовлетворительным. Рассчитывать на реальную помощь Англии и Франции не приходилось, поэтому Николай II и Извольский, ни с кем более не советуясь, сочли за лучшее принять германские требования. «Раз вопрос был поставлен ребром, – писал император матери, – пришлось отложить самолюбие и согласиться». 31 марта 1909 г. Белград, следуя совету из Петербурга, заявил, что аннексия двух провинций не нарушает его прав, и отказался от любых претензий и компенсаций.
Bepul matn qismi tugad.