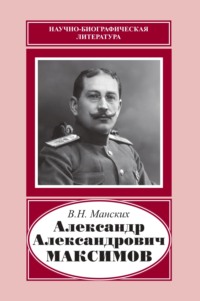Kitobni o'qish: «Александр Александрович Максимов»
© Российская академия наук и издательство «Наука», серия «Научно-биографическая литература» (разработка, оформление), 1959 (год основания), 2015
© Манских В. Н., 2025
© ФГБУ «Издательство „Наука“», редакционно-издательское оформление, 2025
* * *

СЕРИЯ «НАУЧНО-БИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Основана в 1959 году
РЕДКОЛЛЕГИЯ СЕРИИ И ИСТОРИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ им. СИ. ВАВИЛОВА РАН ПО РАЗРАБОТКЕ НАУЧНЫХ БИОГРАФИЙ ДЕЯТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ:
академик РАН М. А. Пальцев (председатель редколлегии),
доктор исторических наук Р. А. Фандо (зам. председателя редколлегии),
доктор исторических наук О. А. Валъкоеа (ученый секретарь редколлегии),
академик РАН Ю. А. Золотое,
академик РАН Ю. Ф. Лачуга,
академик РАН Я. Г. Лобачевский,
академик РАН Ю. В. Наточил,
член-корреспондент РАН И. А. Захарое-Гезехус,
член-корреспондент РАН Ю. М. Батурин,
доктор физико-математических наук В. П. Визгин,
доктор физико-математических наук С. С. Демидов,
доктор биологических наук Т. И. Ульянкина,
доктор биологических наук О. П. Белозеров,
доктор медицинских наук А В. Владзимирский,
доктор географических наук В. А. Широкова,
доктор технических наук В. П. Борисов,
доктор технических наук А. В. Постников,
доктор исторических наук С. С. Илизаров,
доктор исторических наук К. В. Иванов
Предисловие
В истории науки Александр Максимов – фигура, своеобразная до чрезвычайности. Даже ответ на вопрос «Так кто же Вы, Александр Максимов?» оказывается совсем не таким простым.
Основоположник учения о стволовых клетках? Нет, это заблуждение, хотя и достаточно часто встречающееся на страницах посвященных ему биографических статей.
Автор унитарной теории кроветворения? И этот ответ будет не вполне правильным, не говоря о том, что сегодня уже не каждый специалист в области гематологии (науки о крови) сможет адекватно объяснить, что же в действительности представляла собой унитарная теория и чем она принципиально отличалась от альтернативных концепций.
Наверное, Максимов открыл какой-нибудь факт или феномен, носящий его имя? И этого о нем сказать не получится, тем более что некоторые установленные им факты просто не нашли подтверждения при дальнейшем развитии науки.
Но, может, он был совсем особым, ярким представителем знаменитой первой волны белой эмиграции? В какой-то степени – да, хотя Максимов никогда не был на территориях, занятых белыми армиями, политикой он не занимался, да и история его эмиграции очень неясна.
Очень трудно точно определить, почему имя Александра Максимова не кануло в Лету. И если приглядеться внимательнее к этому феномену, то оказывается, что он носит весьма сложный научно-культурный характер. Здесь будет все: восторженные оценки достижений коллегами-современниками (ныне оценка этих достижений не так однозначна), конъюнктурная реклама в наше время (та самая слава первооткрывателя «модных» ныне стволовых клеток), удачное место «на правильной стороне истории» (речь, конечно, об унитарной теории кроветворения, главным апологетом которой был Максимов), крайне – до карикатурности – своеобразная внешность и личность, причем парадоксально привлекающими оказываются даже такие, обычно отталкивающие черты, как высокомерие, педантизм и избыточная любовь к служебному мундиру. Здесь мы поставили точку, но вовсе не для того, чтобы закончить перечисление, а только чтобы отделить от других один из главных, на наш взгляд, факторов, обеспечивших Максимову бессмертие. Речь идет о потрясающем, практически не имеющем равных таланте к созданию гистологических иллюстраций – как в оригинальных работах, так и, что очень важно, в обзорах и классических учебниках.
Пожалуй, нет ни одной посвященной А. А. Максимову публикации, где не содержалась бы заслуженная похвала его рисункам. Таких примеров множество – начиная от личного письма профессора университета Цинциннати Ч. Фута (18 июня 1927 г.): «Ваши иллюстрации являются наиболее красивыми среди большого количества рисунков, что попадали в поле моего зрения с 1910 года, я чрезвычайно завидую Вашей способности создавать такие красивые и в то же время правдивые микроскопические ландшафты»1 – до заметки в современном руководстве по гистологической технике: «Мог ли бы кто-нибудь создавать рисунки, которые были бы также полезны, как цветные микрофотографии? Хорошо, вероятно, не в наше время, но каждый, кто видел рисунки Максимова, которые иллюстрируют его учебник (в дальнейшем – Блума и Фоусетта), понимает, что такое возможно. Не многие, вероятно, очень мало кто может рисовать как Максимов, но каждый может пользоваться рисунками для того, чтобы помочь себе изучить гистологические препараты»2. Кстати говоря, упоминание рисунков Максимова в руководстве по гистотехнике вовсе не случайно – такое высокое качество иллюстраций возможно только при виртуозной технике изготовления препаратов, и во многом непревзойденная техническая репутация Максимова (легенды о которой бытовали даже в 70-х годах прошлого века) зиждется именно на впечатлении от этих иллюстраций. Более того, значительное, если не подавляющее большинство цитирований Максимова на протяжении всего ХХ в. – это именно цитирование его рисунков в монографиях, руководствах и учебниках (от книг классика гистологии А. А. Заварзина до последних изданий учебника для врачей под редакцией Ю. И. Афанасьева и Н. А. Юриной). Можно сказать, что в этом отношении бессмертие работ Максимова может быть доказано с вещественной, криминалистической точностью.
Жанр этой книги далек от принятого в подобных случаях панегирика, равно как и от сухого стиля энциклопедической статьи. Странно, но до сих пор о А. А. Максимове не вышло ни одной крупной работы на русском языке – только короткие статьи, в большинстве своем повторяющие друг друга3. И хотя настоящая работа основывается главным образом на опубликованных материалах, в ней предпринята попытка обобщить и критически осмыслить все накопленные в литературе данные, впервые приводятся материалы из некоторых упущенных из виду источников (в частности, это касается данных о семье ученого), а также содержится первая полная библиография опубликованных работ Максимова. Эта библиография примерно на 20 % шире предыдущих списков, и в ней впервые приводятся полные выходные данные для всех публикаций, включая и те редкие издания, ссылки на которые на протяжении столетия давались неверно или неточно, в том числе и самим Максимовым!
Автор предпринял попытку дать периодизацию творчества А. А. Максимова, проследить внутреннюю логику и охарактеризовать содержание всех его значительных публикаций (в том числе ранних и поздних работ, которые часто лишь называют при перечислении). Кроме того, кажется весьма интересной и оригинальной идея подробно разобрать «кухонные» секреты легендарной максимовской гистологической техники, кое-что из которой может и сегодня не без пользы применяться в лабораторной практике. Вся эта, достаточно изысканная по современным меркам техника, была опробована в лаборатории автором, так что суждения в этом разделе во многом опираются на личный опыт. Наконец, будет показано, как эти три компонента – «стволовая клетка», «унитарная теория кроветворения» и «творчество А. А. Максимова» соотносятся между собой в контексте его и нашего времени.
В настоящей книге при упоминании любой публикации А. А. Максимова дается ссылка на ее номер в списке опубликованных работ, заключенный в {фигурные скобки}, все ремарки, ссылки на литературу и расшифровки даются в [квадратных скобках].
Работа над этой книгой оказалась настолько же захватывающей и интересной, насколько сложной и трудоемкой. В частности, пришлось разыскать все опубликованные А. А. Максимовым работы в старых книгах и журналах (полного комплекта которых нет даже в крупнейших российских библиотеках), на трех европейских языках (с устаревшей, а часто и с просто оригинальной авторской терминологией). Иногда эти работы уже оказывались отсканированы в приемлемом качестве (простейший и нечастый случай), иногда их удавалось найти в каталогах Российской государственной библиотеки (конечно, не оцифрованных), проявляя чудеса поисковой библиографической изобретательности, или в немецких библиотеках, выкупить (после не всегда простых переговоров) на сайтах типа Amazon.com или Abebooks.com и даже откопать на чердаках, среди груд никому не нужного книжного хлама, покрытого пылью многих десятилетий и голубиным пометом. Многие источники, в том числе и некоторые экземпляры, послужившие для настоящего издания, уже недоступны, поскольку переполненные библиотеки отправили эти «устаревшие и маловостребованные» издания на глубокую консервацию («штабелирование») или на уничтожение.
Изначально книга была задумана и реализована как биография с приложением большого альбома – собрания всех рисунков А. А. Максимова из его опубликованных работ с оригинальными подписями и их переводом на русский язык. К сожалению, оказалось невозможным включить это приложение в настоящее издание.
В заключение хотим поблагодарить члена-корреспондента РАН А. Н. Лукашова, А. В. Красикову и Д. К. Обухова за помощь в поиске некоторых труднодоступных и редких изданий, а также профессора Е. В. Шеваля за обсуждение рукописи и существенные замечания.
Часть I
Жизненный путь
Глава 1
От рождения до гимназии (1874–1882)
Всякому, кто берется писать о А. А. Максимове, неизменно приходится столкнуться с крайним дефицитом биографических данных и с гигантскими, часто странными лакунами, а то и с откровенным мифотворчеством. Отчасти это связано, вероятно, с тем, что этот ученый отличался крайней закрытостью и оставался «человеком в футляре» даже для ближайшего окружения. По этой причине мы имеем очень немногочисленные и в основном внешние впечатления о Максимове, отраженные в воспоминаниях знавших его людей. С другой стороны, Максимов, как эмигрант, был в СССР на положении персоны нон грата (хотя этот статус не стоит чересчур пре увеличивать), и мысль о публикации сборника избранных сочинений (как это было сделано для «первого советского гистолога» А. А. Заварзина) или биографической книги любому чиновнику показалась бы откровенно нелепой (показательно, что вся советская литература о Максимове ограничивается отдельными статьями 1920-х и 1970–1980-х годов). Новое же отечество Максимова, США, никогда не считало его своим классиком (в отличие, например, от приютившей И. И. Мечникова Франции) и прагматично ограничилось лишь изданием наиболее коммерчески значимой части наследия – учебника гистологии для врачей4. Выходит, что ситуация с Максимовым вполне естественная, ведь никаких поводов для глубоких изысканий в отношении его биографии раньше просто не возникало. Это несколько напоминает историю математика Эвариста Галуа, интерес к которому возник также спустя много десятилетий после смерти и биография которого столь же загадочна и содержит множество лакун.
Особенно густым туманом покрыто все, что связано с семьей и ранними годами жизни А. А. Максимова. Удивительное начинается с самого первого и, казалось бы, простого пункта – с точной даты рождения. В автобиографии (Curriculum vitae), приложенной к докторской диссертации, Максимов сообщает, что он родился в семье купца, православного вероисповедания, в 1874 г. {13}. Некоторые источники, в частности, некролог, написанный учеником Максимова по Военно-медицинской академии (ВМА) Н. Г. Хлопиным, уточняют дату рождения – 4/17 февраля [132]. Надо полагать, что во время написания некролога Хлопин имел перед собой все необходимые документы архива кафедры гистологии ВМА. Однако десятилетия спустя заведующий той же кафедрой – А. А. Клишов – тоже пишет статью о Максимове. И даже печатает ее в том же самом журнале, где опубликован некролог за подписью Хлопина, в «Архиве анатомии, гистологии и эмбриологии». И в списке литературы у Клишова есть ссылка на этот некролог. Но вот странность: дата рождения Максимова в статье Клишова указана иная – 4/16 февраля 1874 г. [43]. Можно было бы счесть причиной этого различия банальную опечатку, если бы публикации в западных журналах [148, 155, 156, 158, 170, 196, 197], первоисточником которых является некролог за авторством чикагского ученика Максимова Уильяма Блума [152], не указывали радикально иную дату – 22 января. Та же дата стоит и в краткой биографической справке, приложенной к каталогу фонда Максимова в архиве Чикагского университета [189]. Еще иногда называют дату 3 февраля [44] или 3 февраля / 22 января [141]. Точку в этой истории, по-видимому, поставил Р. В. Деев [31], который впервые указал дату рождения (22 января) со ссылкой на первоисточник – разысканное им метрическое свидетельство о рождении и крещении А. А. Максимова [55].
Трудно сказать, с чем связана путаница с датой рождения, но вероятнее всего, с непривычкой к новому календарю в 1929 г., когда родоначальник путаницы Хлопин писал некролог. Крещен А. А. Максимов был 10 марта 1874 г. в Екатерининской церкви при Императорской академии художеств [55]. Этот последний момент нельзя не счесть символическим: как будет видно далее, крещен был один из выдающихся художников, хотя и специфического, гистологического толка.
Факт рождения в семье купца был указан в автобиографии самим А. А. Максимовым (а не в семье служащего, как это указано в [44]). Иногда, без ссылки на источник, пишут, что его отец был зажиточным купцом [40, 141] (даже 1-й гильдии [140]), а иногда сообщают, что практически никаких сведений о его родителях не сохранилось [21]. И, что удивительно, никогда не указывают ни имен родителей, ни точного места рождения Максимова. О членах семьи иногда говорят, что Александр был вторым ребенком, родившимся после сестры Клавдии, которая на пять лет старше его [21, 170].
Однако автору удалось установить, что все эти утверждения ошибочны. Дело в том, что все предыдущие биографы А. А. Максимова (кроме Р. В. Деева) не только не затрудняли себя поисками документов в архивных фондах, но и почему-то не принимали во внимание тот факт, что в дореволюционные времена в столице России регулярно издавалось огромное количество всевозможных периодических справочников – о лицах, недвижимости, учреждениях и прочем, поскольку иные способы поиска контактных данных и информации для частных лиц были недоступны. И для поиска сведений о семье А. А. Максимова оказалось достаточным просто перелистать несколько этих изданий. Сегодня такие справочники оцифрованы, их можно найти в интернете. В частности, среди них есть «Справочная книга о лицах С.-Петербургского купечества и др. званий, получивших свидетельства и билеты по 1 и 2 гильдиям на право торговли и промыслов в С.-Петербурге». Если мы раскроем том этого справочника за 1875 г. [118] (год спустя после рождения А. А. Максимова), то в алфавитном перечне купцов 2-й гильдии на с. 388 прочтем: «Максимов, Александр Максимович, 53 лет, в купечестве состоит с 1871 года, Жит.: Вас. Ч. 1 уч. в доме № 32 по 5-й линии. При нем состоят: жена второго брака Вера Петровна, от второго брака сын Александр 10 месяц., дочери Евгения и Клавдия и дочь жены Вера Николаевна Савельева (807)». Цифра в скобках обозначает номер свидетельства на право торговли.
Других купцов Александров Максимовых, имеющих, кроме того, сына Александра 10 месяцев (справочник, очевидно, составлялся по данным, актуальным на конец предыдущего года) и дочь Клавдию, в справочнике не имеется. Нет никаких сомнений, что это и есть отец А. А. Максимова. Более точные данные о возрасте домочадцев находим в томе за 1877 г.: главе семейства 55 лет, жене – 38 лет, сыну – 3 года, дочери Евгении – 8 лет, дочери Клавдии – 6 лет, падчерице – 18 лет. Интересно, что при первом упоминании А. М. Максимова в Справочной книге (1872) [116] никакие члены семьи не числятся – что, очевидно, связано с неполнотой поданных им сведений.
По справочнику можно (с помощью простой арифметики) предположительно установить и годы жизни Александра Максимовича, поскольку в последний раз он упоминается в томе за 1886 г.: 1821–1886. Интересно, что кроме Александра Максимовича в справочнике имеются еще 8 других купцов Максимовых (все 2-й гильдии), причем трое из них имеют отчество Максимович. Примечательно и то, что все остальные купцы Максимовы значительно моложе отца Александра Александровича и имеют более раннюю дату вступления в купечество. Трудно сказать, являются ли они родственниками (братьями) или просто все принадлежат к первому поколению выбившихся в купцы крестьян, получивших фамилию по имени отца и потому сходную с отчеством. Отметим, что даже в самом раннем доступном томе справочника – за 1865 г. [114] – нет никаких упоминаний о купце Максиме Максимове. Чем занимался А. М. Максимов до того, как стал самостоятельным купцом, неизвестно. Возможно, помогал вести дела кому-нибудь из своих более успешных родственников, уже бывших купцами.
Примечательно и другое. Обычно в краткой справке наряду с членами семьи и местом жительства указывается также и род торговли, а часто и недвижимость, которой владеет тот или иной купец. Ничего подобного нет ни в одном из томов, где присутствуют сведения об отце Максимова, только сказано, что образование он получил в частном учебном заведении (в справочнике за 1886 г.) [123], хотя упоминается и о домашнем образовании (в издании 1877 г.) [120]. В период с 1871 по 1886 г. (год последнего упоминания) неоднократно меняется и адрес семьи Максимовых. Из дома № 32 по 5-й линии Васильевского острова (где Максимовы жили по крайней мере с 1871 г., а значит, именно здесь и должен был родиться сын Александр) они переехали в дом № 116 по Невскому проспекту (1875), затем в № 11 по Большому проспекту (1876), № 18 по 1-й линии Васильевского острова (1881) и в дом № 30 (1884) там же [117–124]. Нет никаких сведений о том, что именно послужило причиной переезда в каждом случае – коммерческие успехи (это вероятно при переезде на Невский проспект) или, наоборот, финансовые неурядицы (например, с этим может быть связано возвращение на Васильевский остров). Однако такая частая смена адресов говорит о том, что отец А. А. Максимова не имел своего дома в Санкт-Петербурге и был вынужден снимать жилье, а также и о том, что его финансовое положение не было стабильным. На момент последнего упоминания в справочнике (на момент смерти?) он так же, как и прежде, оставался купцом 2-й гильдии.
Сама по себе принадлежность к 2-й гильдии еще ничего не означает, это очень разнородная группа предпринимателей, включавшая и вполне успешных коммерсантов, и таких, дело которых балансировало на грани разорения. Трудно, однако, считать человека без собственного дома и к рождению сына только три года как вступившего в купечество (заметим, на 50-м году жизни) «зажиточным купцом». Между прочим, отсутствие у Максимовых своей жилой недвижимости подтверждается также и тем, что они не числятся в справочнике домовладельцев Санкт-Петербурга (например, за 1892 г.) [113].

Дом № 32 по 5-й линии Васильевского острова, где родился А. А. Максимов.
Фото автора и А. С. Птицына, 2020 г. Дом существовал уже в 1770-х гг. как одноэтажное здание на полуподвале, таким он оставался и в 1874 г., когда родился Максимов [12, 62]
Не лишним будет заметить, что смерть (или, что очень маловероятно, уход от дел) отца А. А. Максимова наступила в год, когда сыну исполнилось 12 лет, и едва ли семья, кормилец которой умер или ушел на покой, могла процветать. Не в этом ли следует искать причину нескольких характерных черт и привычек Максимова, которые, как известно, формируются с детства? Ведь от непростого, но амбициозного прошлого его семьи ему могла достаться не только привычка к купеческому пробору на голове, анекдотичному для профессора-медика (да еще и военного, для которого должно быть правилом презирать торговцев), но и, например, чрезвычайная скрытность относительно скромной, совсем не аристократического масштаба жизни за нарочито шикарным фасадом. Впрочем, имеются свидетельства, правда, на уровне слухов, что от родственников («тетушек») Максимов унаследовал значительные капиталы5. Свою роль могли сыграть и сословные предрассудки: купечество, какими бы капиталами оно ни обладало, все равно не могло быть поставлено в один ряд с аристократией, внешний шик коммерсантов нередко бывал попыткой скомпенсировать социальные комплексы.
Так что же нового удалось узнать, листая и сопоставляя между собой все эти многочисленные статьи и некрологи в медицинских журналах и справочники полуторавековой давности? Довольно немало.
Александр Александрович Максимов родился 22 января 1874 г. в Санкт-Петербурге. По-видимому, это произошло в доме № 32 по 5-й линии Васильевского острова (дом сохранился, хотя и несколько раз перестраивалcя). Мальчика крестили 10 марта в Екатерининской церкви при Императорской академии художеств. Будущий ученый рос в семье уже пожилого отца Александра Максимовича Максимова, только-только выбившегося в купцы, и матери Веры Петровны, которая была моложе мужа на 17 лет. Для обоих родителей это был уже не первый брак. Вера Петровна, очевидно, впервые вышла замуж за некоего Николая Савельева, судя по годам первой дочери, в возрасте около 20 лет. Александр был вовсе не вторым, а третьим или даже, если считать падчерицу, четвертым (и, по-видимому, последним) ребенком в семье. Кроме него, в семье было еще три девочки – уже взрослая единоутробная сестра Вера, старшая (на 5 лет) сестра Евгения (никогда не упоминаемая биографами) и значительно более близкая по возрасту Клавдия (которая была старше Александра всего на 3 года, а не на 5 лет6). Не удивительно, что именно с последней у Александра в дальнейшем сложились самые тесные отношения. В финансовом плане семья жила неровно: нередко отцу улыбалась удача в делах, но за ней все-таки следовали спады (хотя едва ли дело доходило до нужды), и в конце концов, когда Александру исполнилось 12 лет, купеческий статус семьи окончился, вероятно, по причине смерти отца.
Bepul matn qismi tugad.