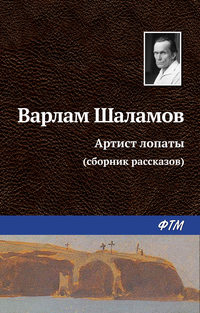Kitobni o'qish: «Артист лопаты (сборник)»
Припадок
Качнулась стена, и горло мое захлестнуло знакомой сладкой тошнотой. Обгорелая спичка на полу в тысячный раз проплывала перед глазами. Я протянул руку, чтоб схватить эту надоевшую спичку, и спичка исчезла – я перестал видеть. Мир еще не ушел от меня вовсе: там, на бульваре, был еще голос, отдаленный, настойчивый голос медицинской сестры. Потом замелькали халаты, угол дома, звездное небо, возникла огромная серая черепаха, глаза ее блестели равнодушно; кто-то выломал ребро черепахи, и я вполз в какую-то нору, цепляясь и подтягиваясь на руках, доверяя только рукам.
Я вспомнил чужие настойчивые пальцы, умело пригибавшие мою голову и плечи к постели. Все стихло, и я остался один на один с кем-то огромным, как Гулливер. Я лежал на доске, как насекомое, и кто-то меня пристально рассматривал в лупу. Я поворачивался, и страшная лупа следовала за моими движениями. Я изгибался под чудовищным стеклом. И только тогда, когда санитары перенесли меня на больничную койку и наступил блаженный покой одиночества, я понял, что Гулливерова лупа не была кошмаром – это были очки дежурного врача. Это обрадовало меня несказанно.
Голова болела и кружилась при малейшем движении, и нельзя было думать можно было только вспоминать, и давние пугающие картины стали являться как кадры немого кино, двуцветные фигуры. Сладкая тошнота, похожая на эфирный наркоз, не проходила. Она была знакомой, и это первое ощущение было теперь разгадано. Я вспомнил, как много лет назад, на Севере, после шестимесячной работы без отдыха впервые был объявлен выходной день. Каждый хотел лежать, лежать, не чинить одежды, не двигаться… Но всех подняли с утра и погнали за дровами. В восьми километрах от поселка шла лесозаготовка – нужно было выбрать бревно по силе и донести домой. Я решил идти в сторону – там километрах в двух были старые штабеля, там можно было найти подходящее бревно. Идти в гору было трудно, и когда я добрался до штабеля – легких бревен там не оказалось. Выше чернели разваленные поленницы дров, и я стал подниматься к ним. Здесь были тонкие бревна, но концы их были зажаты штабелем, и у меня не хватило сил выдернуть бревно. Я несколько раз принимался и изнемог окончательно. Но вернуться без дров было нельзя, и, собирая последние силы, я пополз еще выше к штабелю, засыпанному снегом. Я долго разгребал рыхлый скрипучий снег ногами и руками и выдернул наконец одно из бревен. Но бревно было слишком тяжелым. Я снял с шеи грязное полотенце, служившее мне шарфом, и, привязав вершину, потащил бревно вниз. Бревно прыгало и било по ногам. Или вырывалось и бежало под гору быстрее меня. Бревно застревало в кустах стланика или втыкалось в снег, и я подползал к нему и снова заставлял бревно двигаться. Я был еще высоко на горе, когда увидел, что уже стемнело. Я понял, что прошло много часов, а дорога к поселку и к зоне была еще далеко. Я дернул шарф, и бревно снова скачками кинулось вниз. Я вытащил бревно на дорогу. Лес закачался перед моими глазами, горло захлестнула сладкая тошнота, и я очнулся в будке лебедчика – тот оттирал мне руки и лицо колючим снегом.
Все это виделось мне сейчас на больничной стене.
Но вместо лебедчика руку мою держал врач. Аппарат Рива-Роччи для измерения кровяного давления стоял здесь же. И я, поняв, что я не на Севере, обрадовался.
– Где я?
– В институте неврологии.
Врач что-то спрашивал. Я отвечал с трудом. Мне хотелось быть одному. Я не боялся воспоминаний.
1960
Надгробное слово
Все умерли…
Николай Казимирович Барбэ, один из организаторов Российского комсомола, товарищ, помогавший мне вытащить большой камень из узкого шурфа, бригадир, расстрелян за невыполнение плана участком, на котором работала бригада Барбэ, по рапорту молодого начальника участка, молодого коммуниста Арма – он получил орден за 1938 год и позже был начальником прииска, начальником управления – большую карьеру сделал Арм. У Николая Казимировича Барбэ была бережно хранимая вещь – верблюжий шарф, голубой длинный теплый шарф, настоящий шерстяной. Его украли в бане воры – просто взяли, да и все, когда Барбэ отвернулся. И на следующий день Барбэ поморозил щеки, сильно поморозил – язвы так и не успели зажить до его смерти…
Умер Иоська Рютин. Он работал в паре со мной, а со мной работяги не хотели работать. А Иоська работал. Он был гораздо сильнее, ловчее меня. Но он понимал хорошо, зачем нас сюда привезли. И не обижался на меня, работавшего плохо. В конце концов старший смотритель – так и назывались горные чины в 1937 году, как в царское время, – велел дать мне «одиночный замер» – что это такое, будет рассказано особо. А Иоська работал в паре с кем-то другим. Но места наши в бараке были рядом, и я сразу проснулся от неловкого движения кого-то кожаного, пахнущего бараном; этот кто-то, повернувшись ко мне спиной в узком проходе между нар, будил моего соседа:
– Рютин? Одевайся.
И Иоська стал торопливо одеваться, а пахнущий бараном человек стал обыскивать его немногие вещи. Среди немногого нашлись шахматы, и кожаный человек отложил их в сторону.
– Это – мои, – сказал торопливо Рютин. – Моя собственность. Я платил деньги.
– Ну и что ж? – сказала овчина.
– Оставьте их.
Овчина захохотала. И когда устала от хохота и утерла кожаным рукавом лицо, выговорила:
– Тебе они больше не понадобятся…
Умер Дмитрий Николаевич Орлов, бывший референт Кирова. С ним мы пилили дрова в ночной смене на прииске и, обладатели пилы, работали днем на пекарне. Я хорошо помню, сколь критическим взглядом обвел нас инструментальщик-кладовщик, выдавая пилу, обыкновенную поперечную пилу.
– Вот что, старик, – сказал инструментальщик. Нас всех в это время звали стариками – не то что двадцать лет спустя. – Можешь наточить пилу?
– Конечно, – сказал Орлов поспешно. – А разводка есть?
– Топором разведешь, – сказал кладовщик, уразумевший уже в нас людей знающих, не то что эти интеллигенты.
Орлов шел по тропке согнувшись, засунув руки в рукава. Пилу он держал под мышкой.
– Послушайте, Дмитрий Николаевич, – сказал я, догоняя Орлова вприпрыжку. – Я ведь не умею. Никогда пилы не точил.
Орлов повернулся ко мне, воткнул пилу в снег и надел рукавицы.
– Я думаю, – сказал он назидательным тоном, – что всякий человек с высшим образованием обязан уметь точить и разводить пилу.
Я согласился с ним.
Умер экономист, Семен Алексеевич Шейнин, добрый человек. Он долго не понимал, что делают с нами, но в конце концов понял и стал спокойно ждать смерти. Мужества у него хватало. Как-то я получил посылку – то, что посылка дошла, было великой редкостью, – и в ней были авиационные фетровые бурки, и больше ничего. Как плохо знали наши родные условия, в которых мы жили. Я понимал отлично, что бурки украдут, отнимут у меня в первую же ночь. И я их продал, не выходя из комендатуры, за сто рублей десятнику Андрею Бойко. Бурки стоили семьсот, но это была выгодная продажа. Ведь я мог купить сто килограммов хлеба, а если не сто, то купить масла, сахару. Масло и сахар последний раз я ел в тюрьме. И я купил в магазине целый килограмм масла. Я помнил о его полезности. Сорок один рубль стоило это масло. Я купил днем (работали ночью) и побежал к Шейнину – мы жили в разных бараках, отпраздновать посылку. Купил я и хлеба…
Семен Алексеевич взволновался и обрадовался.
– Ну, как же я? Какое я имею право? – бормотал он, взволнованный чрезвычайно. – Нет, нет, я не могу…
Но я уговорил его, и, радостный, он побежал за кипятком.
И тотчас я упал на землю от страшного удара по голове.
Когда я вскочил, сумки с маслом и хлебом не было. Метровое лиственное полено, которым меня били, валялось около койки. И все кругом смеялись. Прибежал Шейнин с кипятком. Много лет потом я не мог вспомнить об этой краже без страшного, почти шокового волнения.
А Семен Алексеевич – умер.
Умер Иван Яковлевич Федяхин. Мы с ним ехали одним поездом, одним пароходом. Попали на один прииск, в одну бригаду. Он был философ, волоколамский крестьянин, организатор первого в России колхоза. Колхозы, как известно, первые организовывались эсерами в двадцатых годах, а группа Чаянова – Кондратьева представляла их интересы «наверху»… Иван Яковлевич и был деревенским эсером – в числе того миллиона, который голосовал за эту партию в 1917 году. За организацию первого колхоза он и получил срок – пятилетний срок заключения.
Как-то в самом начале, первой колымской осенью 1937 года, мы работали с ним у грабарки – стояли на знаменитом приисковом конвейере. Тележек-грабарок было две, отцепные. Пока коногон вез одну на промывочный прибор, двое рабочих едва успевали насыпать другую. Курить не успевали, да и не разрешалось это смотрителями. Наш коногон зато курил – огромную цигарку, свернутую чуть не из полпачки махорки (махорка еще тогда была), и оставлял на борту забоя нам затянуться.
Коногоном был Мишка Вавилов, бывший заместитель председателя треста «Промимпорт», а забойщиками Федяхин и я.
Не спеша подбрасывая грунт в грабарку, мы говорили друг с другом. Я рассказал Федяхину об уроке, который давался декабристам в Нерчинске, – по «Запискам Марии Волконской» – три пуда руды на человека.
– А сколько, Василий Петрович, весит наша норма? – спросил Федяхин.
Я подсчитал – 800 пудов примерно.
– Вот, Василий Петрович, как нормы-то выросли…
Позднее, во время голода зимой, я доставал табак – выпрашивал, копил, покупал – и менял его на хлеб. Федяхин не одобрял моей «коммерции»:
– Не идет это вам, Василий Петрович, не надо вам это делать…
Последний раз я его видел зимой у столовой. Я дал ему шесть обеденных талонов, полученных мной в этот день за ночную переписку в конторе. Хороший почерк мне иногда помогал. Талоны пропадали – на них были штампы чисел. Федяхин получил обеды. Он сидел за столом и переливал из миски в миску юшку – суп был предельно жидким, и ни одной жиринки в нем не плавало… Каша-шрапнель со всех шести талонов не наполнила одной полулитровой миски… Ложки у Федяхина не было, и он слизывал кашу языком. И плакал.
Умер Дерфель. Это был французский коммунист, бывавший и в каменоломнях Кайенны. Кроме голода и холода, он был измучен нравственно – он не хотел верить, как может он, член Коминтерна, попасть сюда, на советскую каторгу. Его ужас был бы меньше, если бы он видел, что он один такой. Такими были все, с кем он приехал, с кем он жил, с кем он умирал. Это был маленький, слабый человек, побои уже входили в моду… Однажды бригадир его ударил, ударил просто кулаком, для порядка, так сказать, но Дерфель упал и не поднялся. Он умер один из первых, из самых счастливых. В Москве он работал в ТАССе одним из редакторов. Русским языком владел хорошо.
– В Кайенне было тоже плохо, сказал он мне как-то. – Но здесь – очень плохо.
Умер Фриц Давид. Это был голландский коммунист, работник Коминтерна, обвинявшийся в шпионаже. У него были прекрасные вьющиеся волосы, синие глубокие глаза, ребяческий вырез губ. Русского языка он почти не знал, Я встретился с ним в бараке, набитом людьми так тесно, что можно было спать стоя. Мы стояли рядом. Фриц улыбнулся мне и закрыл глаза.
Пространство под нарами было набито людьми до отказа, надо было ждать, чтоб присесть, опуститься на корточки, потом привалиться куда-нибудь к нарам, к столбу, к чужому телу – и заснуть. Я ждал, закрыв глаза. Вдруг рядом со мной что-то рухнуло. Мой сосед Фриц Давид упал. Он поднялся в смущении.
– Я заснул, – сказал он испуганно.
Этот Фриц Давид был первым человеком из нашего этапа, получившим посылку. Посылку ему послала его жена из Москвы. В посылке был бархатный костюм, ночная рубашка и большая фотография красивой женщины. В этом бархатном костюме он и сидел на корточках рядом со мной.
– Я хочу есть, – сказал он, улыбаясь, краснея. – Я очень хочу есть. Принесите мне что-нибудь поесть.
Фриц Давид сошел с ума, и его куда-то увели.
Ночную рубашку и фотографию у него украли в первую же ночь. Когда я рассказывал о нем позднее, я всегда недоумевал и возмущался: зачем, кому нужна была чужая фотография?
– Всего и вы не знаете, – однажды сказал некий хитрый собеседник мой. Догадаться нетрудно. Эта фотография украдена блатными, и, как говорят блатные, для «сеанса». Для онанизма, наивный друг мой…
Умер Сережа Кливанский, товарищ мой по первому курсу университета, с которым мы встретились через десять лет в этапной камере Бутырской тюрьмы. Он был исключен из комсомола в 1927 году за доклад о китайской революции на кружке текущей политики. Университет ему удалось кончить, и он работал экономистом в Госплане, пока там не изменилась обстановка, и Сереже пришлось оттуда уйти. Он поступил по конкурсу в оркестр театра имени Станиславского и был второй скрипкой – до ареста в 1937 году. Он был сангвиник, остряк, ирония его не покидала. Интерес к жизни, к событиям ее также.
В этапной камере все ходили почти голыми, поливались водой, спали на полу. Только герой выдерживал сон на нарах. И Кливанский острил:
– Это пытка выпариванием. После нее нас подвергнут пытке вымораживанием на Севере.
Это было точное предсказание, но это не было нытьем труса. На прииске Сережа был весел, общителен. С энтузиазмом стремился овладеть блатным словарем и радовался как ребенок, выговаривая в надлежащей интонации блатные выражения.
– Вот сейчас я, кажется, припухну, говорил Сережа, заползая на верхние нары.
Он любил стихи, в тюрьме читал их часто на память. В лагере он не читал стихов.
Он делился последним куском, вернее, еще делился… Это значит, что он так и не успел дожить до времени, когда ни у кого не было последнего куска, когда никто ничем ни с кем не делился.
Умер бригадир Дюков. Я не знаю и не знал его имени. Он был из «бытовиков», к пятьдесят восьмой статье не имел никакого отношения. В лагерях на материке он был так называемым председателем коллектива, настроен был не то что романтически, но собирался «играть роль». Он приехал зимой и выступил с удивительной речью на первом же собрании. У бытовиков бывали собрания – ведь совершившие бытовые и служебные преступления, а равно и рецидивисты-воры считались «друзьями народа», подлежащими исправлению, а не карательному воздействию. В отличие от «врагов народа» осужденных по пятьдесят восьмой статье. Позднее, когда рецидивистам стали давать четырнадцатый пункт пятьдесят восьмой статьи – саботаж (за отказы от работы), весь параграф четырнадцатый был изъят из пятьдесят восьмой статьи и избавлен от многолетних и многообразных карательных мер. Рецидивисты считались «друзьями народа» всегда – до знаменитой бериевской амнистии 1953 года включительно. В жертву теории и крыленковской «резинке» и пресловутой «перековке» были принесены многие сотни тысяч несчастных людей.
На том, первом, собрании Дюков предложил взять под свое руководство бригаду пятьдесят восьмой статьи – обычно бригадир политических был из их же среды. Дюков был неплохой парень. Зная, что крестьяне работают в лагерях отлично, лучше всех, помня, что пятьдесят восьмой статьи среди крестьян было очень много. В этом следует видеть особую мудрость Ежова и Берии, понимавших, что трудовая ценность интеллигенции весьма невысока, а стало быть, производственную задачу лагеря могуг не выполнить, в отличие от политической задачи. Но Дюков в такие высокие соображения не вдавался, вряд ли ему приходило в голову что-либо, кроме рабочих качеств людей. Он отобрал себе бригаду исключительно из крестьян и приступил к работе. Это было весной 1938 года. Дюковские крестьяне пробыли всю голодную зиму 1937/38 года. Он не бывал со своими бригадниками в бане, а то бы давно понял, в чем дело.
Они работали неплохо, их надо было только подкормить. Но в этой просьбе Дюкова начальство отказало самым резким образом. Голодная бригада героически вырабатывала норму, работая через силу. Тогда Дюкова стали обсчитывать: замерщики, учетчики, смотрители, прорабы, он стал жаловаться, протестовать все резче и резче, выработка бригады все падала и падала, питание делалось все хуже. Дюков попробовал обратиться к высокому начальству, но высокое начальство посоветовало соответствующим работникам приписать бригаду Дюкова, вместе с самим бригадиром, к известным спискам. Это было сделано, и все были расстреляны на знаменитой Серпантинной.
Умер Павел Михайлович Хвостов. Самое страшное в голодных людях – это их поведение. Все как у здоровых, и все же это – полусумасшедшие. Голодные всегда яростно отстаивают справедливость – если они не слишком голодны, не чересчур истощены. Они – вечные спорщики, отчаянные драчуны. Обычно лишь одна тысячная часть поругавшихся между собой людей на самых предельных нотах доводит дело до драки. Голодные вечно дерутся. Споры вспыхивают по самым диким, самым неожиданным поводам: «Зачем ты взял мое кайло?., занял мое место?» Кто покороче, пониже, норовит дать подножку и сбить с ног противника. Кто повыше – навалиться и уронить врага своей тяжестью, а потом царапать, бить, кусать… Все это бессильно, не больно, не смертельно и слишком часто, чтобы заинтересовать окружающих. Драк не разнимают.
Вот таким был Хвостов. Он дрался с кем-нибудь каждый день в бараке и в той глубокой отводной траншее, которую копала наша бригада. Он был моим зимним знакомым я не видел его волос. А шапка у него была ушанка с изорванным белым мехом. И глаза темные, блестящие голодные глаза. Я читая иногда стихи, и он смотрел на меня как на полоумного.
Он вдруг начал отчаянно бить кайлом по камню траншеи. Кайло было тяжелым, Хвостов бил наотмашь, почти без перерыва бил. Я подивился такой силе. Мы давно были вместе, давно голодали. Потом кайло упало и зазвенело. Я оглянулся. Хвостов стоял, расставив ноги, и качался. Колени его сгибались. Он качнулся и упал лицом вниз. Он вытянул далеко вперед руки в тех самых рукавицах, которые он каждый вечер сам штопал. Руки открылись – на обоих предплечьях была татуировка. Павел Михайлович был капитан дальнего плавания.
Роман Романович Романов умирал на моих глазах. Когда-то он был у нас кем-то вроде командира роты: выдавал посылки, следил за чистотой в лагерной зоне, словом, был на таком привилегированном положении, о каком и мечтать не мог никто из нас, пятьдесят восьмой статьи и «литерок», как говорили блатные, или «литерников», как произносят это слово высшие чиновники лагерей. Предел наших мечтаний – работа прачки в бане или починочным ночным портным. Все, кроме камня, было нам запрещено московскими «особыми указаниями». Такая бумага шла при деле каждого из нас. А вот Роман Романович был на такой недоступной должности. И даже быстро освоился с ее секретами: как открывать посылочный ящик, чтобы сахар сыпался на пол. Как разбить банку с вареньем, закатить под топчан сухари и сушеные фрукты. Всему этому Роман Романович обучился быстро и знакомств с нами не поддерживал. Он был строго официален и держался как вежливый представитель того высокого начальства, с которым мы личного общения иметь не могли. Он никогда ничего не советовал нам. Он только разъяснял: письмо можно посылать одно в месяц, посылки выдаются с 8 до 10 вечера в лагерной комендатуре и такое подобное. Мы не завидовали Роману Романовичу, мы только удивлялись. Очевидно, тут сыграло роль какое-то личное случайное знакомство Романова. Впрочем, он был недолго, всего месяца два, командиром роты. Прошла ли очередная поверка штата (время от времени, и обязательно к Новому году, такие поверки устраиваются) или кто-либо «дунул» – пользуясь красочным лагерным выражением. Но Роман Романович исчез. Он был военный работник, полковник, кажется. И вот через четыре года я попал на «витаминную командировку», где собирали хвою стланика – единственного вечнозеленого растения здесь. Эту хвою свозили за много сотен верст на витаминный комбинат. Там ее варили, и хвоя превращалась в тягучую коричневую смесь невыносимого запаха и вкуса. Ее заливали в бочки и развозили по лагерям. Тогдашней местной медициной это считалось главным общедоступным и обязательным средством от цинги. Цинга свирепствовала, да еще в сочетании с пеллагрой и прочими авитаминозами. Но все, кому доводилось проглотить хоть каплю этого страшного снадобья, соглашались лучше умереть, чем лечиться подобной чертовщиной. Но были приказы, а приказ есть приказ, и пищу в лагерях не давали до той поры, пока порция лекарства не будет проглочена. Дежурный стоял тут же со специальным крошечным черпачком. Войти в столовую было нельзя, минуя раздатчика стланика, и так то самое, чем особенно дорожил арестант обед, пища, было непоправимо испорчено этой предварительной обязательной зарядкой. Так длилось более десяти лет… Врачи пограмотней недоумевали – как может сохраняться в этой клейкой мази витамин С, чрезвычайно чувствительный ко всяким переменам температуры. Толку от лечения не было никакого, но экстракт продолжали раздавать. Тут же, рядом со всеми поселками, было очень много шиповника. Но шиповник никто и не решался собирать – о нем ничего не говорилось в приказе. И только много позже войны, в 1952, кажется, году, было получено, опять-таки от имени местной медицины, письмо, где категорически запрещалась выдача экстракта стланика, как разрушающе действующего на почки. Витаминный комбинат был закрыт. Но в то время, когда я встретился с Романовым, стланик собирали вовсю. Собирали его «доходяги» – приисковый шлак, отбросы золотых забоев – полуинвалиды, голодающие-хроники. Золотой забой из здоровых людей делал инвалидов в три недели: голод, отсутствие сна, многочасовая тяжелая работа, побои… В бригаду включались новые люди, и Молох жевал… К концу сезона в бригаде Иванова не оставалось никого, кроме бригадира Иванова. Остальные шли в больницу, «под сопку» и на «витаминные» командировки, где кормили один раз в день и хлеба больше 600 граммов ежедневно получить было нельзя. Мы с Романовым работали в ту осень не на сборе хвои. Мы работали на «строительстве». Мы строили себе дом на зиму – летом мы жили в рваных палатках.
Была отмерена шагами площадь, поставлены колышки, и мы втыкали редкую изгородь в два ряда. Промежуток заполнялся кусками заледеневшего мха и торфа. Внутри были нары из жердей, одноэтажные. Посредине стояла железная печка. На каждую ночь нам давали порцию дров, вычисленную эмпирически. Однако у нас не было ни пилы, ни топора – эти острорежущие предметы хранились у бойцов охраны, которые жили в отдельной утепленной и обитой фанерой палатке. Пилы и топоры выдавались только по утрам при разводе на работу. Дело в том, что на соседней «витаминной» командировке несколько уголовников напали на бригадира. Блатные чрезвычайно склонны к театральности, внося ее в жизнь так, что им позавидовал бы Евреинов. Бригадира решено было убить, и предложение одного из блатарей – отпилить голову бригадиру – было встречено с восторгом. Голова была отпилена обыкновенной поперечной пилой. Вот поэтому-то был приказ, запрещающий оставлять у заключенных на ночь топоры и пилы. Почему на ночь? Но в приказах никто никогда не искал логики.
Как же резать дрова, чтоб поленья влезли в печку? Более тонкие ломались ногами, а толстые целым пучком с тонкого конца вкладывались в отверстие горящей печки и постепенно сгорали. Кто-нибудь ногой подвигал их глубже всегда было кому присмотреть. Этот свет открытой печной двери и был единственным светом в нашем доме. Пока не выпал снег, домик продувало насквозь, но кругом стен нагребли снега, залили водой – и зимовка наша была готова. Дверь завешивалась обрывком брезента.
Здесь, в этом самом сарае, я и встретился с Романом Романовичем. Он не узнал меня. Одет он был как «огонь», как говорят блатные – и всегда метко, клочья ваты торчали из телогрейки, из брюк, из шапки. Немало раз, верно, приходилось Роману Романовичу бегать «за уголечком», чтобы разжечь папиросу какого-нибудь блатаря… Глаза его блестели голодным блеском, а щеки были такими же румяными, как и раньше, только не напоминали воздушные шары, а туго обтягивали скулы. Роман Романович лежал в углу и с шумом втягивал в себя воздух. Подбородок его поднимался и опускался.
– Кончается, – сказал Денисов, сосед его. – У него портянки хорошие. – И, ловко сдернув с ног умирающего бурки, Денисов отмотал еще крепкие зеленые одеяльные портянки. – …Вот так, – сказал он, грозно глядя на меня. Но мне было все равно.
Труп Романова выносили, когда нас выстраивали перед разводом на работу. Шапки у него тоже не было. Полы расстегнутого бушлата волочились по земле.
Умер ли Володя Добровольцев, пойнтист? Пойнтист – работа это или национальность? Это была работа, вызывающая зависть в бараках пятьдесят восьмой статьи. Отдельные бараки для политических в общем лагере, где были бараки и «бытовиков» и уголовников-рецидивистов, за общей проволокой, были, конечно, юридическим издевательством. От нападений шпаны и кровавых блатных расчетов это никого не защищало.
Пойнт – это железная труба с горячим паром. Этот горячий пар разогревает каменную породу, смерзшийся галечник; рабочий время от времени выгребает разогретый камень металлической ложкой величиной с человеческую ладонь, с трехметровой рукояткой.
Работа считается квалифицированной, поскольку поинтист должен открывать и закрывать краны с горячим паром, который идет по трубам из будки, от бойлера примитивного парового приспособления. Быть бойлеристом еще лучше, чем пойнтистом. Не всякий инженер-механик с пятьдесят восьмой статьей мог мечтать о подобной работе. И не потому, что это было квалификацией. Чистой случайностью было то, что из тысяч людей на эту работу был направлен Володя. Но это преобразило его. Ему не приходилось думать о том, как бы согреться вечная мысль… Леденящий холод не пронизывал все его существо, не останавливал работу мозга. Горячая труба спасала его. Вот почему все и завидовали Добровольцеву.
Были разговоры о том, что неспроста он сделан пойнтистом – это верное доказательство, что он осведомитель, шпион… Конечно, блатные всегда говорили – раз санитаром работал в лагере – значит, пил трудовую кровь, и цену подобным суждениям люди знали: зависть плохая советчица. Володя сразу как-то безмерно вырос в наших глазах, как будто среди нас обнаружился замечательный скрипач. А то, что Добровольцев – это надо было по условиям работы – уходил один и, выходя из лагеря через вахту, открыв вахтенное окошечко, кричал туда свой номер «двадцать пять» таким радостным голосом, громким голосом от этого мы уже давно отвыкли.
Иногда он работал близ нашего забоя. И мы, по праву знакомства, бегали по очереди греться к трубе. Труба была дюйма полтора в диаметре, ее можно было охватить рукой, сжить в кулаке, и тепло ощутимо переливалось из рук в тело, и не было сил оторваться, чтобы возвращаться в забой, в мороз…
Володя не гнал нас, как другие пойнтисты. Никогда он не говорил нам ни слова, хотя я знаю, что пойнтистам было запрещено пускать греться около труб нашего брата. Он стоял, окруженный облаками густого белого пара. Одежда его заледенела. Каждая ворсинка бушлата блестела, как хрустальная игла. Он никогда с нами не разговаривал – все же цена этой работы была, очевидно, слишком дорогой.
В рождественский вечер этого года мы сидели у печки. Железные ее бока по случаю праздника были краснее, чем обыкновенно. Человек ощущает разницу температуры мгновенно. Нас, сидящих за печкой, тянуло в сон, в лирику.
– Хорошо бы, братцы, вернуться нам домой. Ведь бывает же чудо… – сказал коногон Глебов, бывший профессор философии, известный в нашем бараке тем, что месяц назад забыл имя своей жены. – Только, чур, правду.
– Домой?
– Да.
– Я скажу правду, – ответил я. – Лучше бы в тюрьму. Я не шучу. Я не хотел бы сейчас возвращаться в свою семью. Там никогда меня не поймут, не смогут понять. То, что им кажется важным, я знаю, что это пустяк. То, что важно мне – то немногое, что у меня осталось, ни понять, ни почувствовать им не дано. Я принесу им новый страх, еще один страх к тысяче страхов, переполняющих их жизнь. То, что я видел, человеку не надо видеть и даже не надо знать. Тюрьма это другое дело. Тюрьма – что свобода. Это единственное место, которое я знаю, где люди не боясь говорили все, что они думали. Где они отдыхали душой. Отдыхали телом, потому что не работали. Там каждый час существования был осмыслен.
– Ну, замолол, – сказал бывший профессор философии. Это потому, что тебя на следствии не били. A кто прошел через метод номер три, те другого мнения…
– Ну а ты, Петр Иваныч, что скажешь?
Петр Иванович Тимофеев, бывший директор уральского треста, улыбнулся и подмигнул Глебову.
– Я вернулся бы домой, к жене, к Агнии Михайловне. Купил бы ржаного хлеба буханку! Сварил бы каши из магара – ведро! Суп-галушки – тоже ведро! И я бы ел все что. Впервые в жизни наелся бы досыта этим добром, а остатки заставил бы есть Агнию Михайловну.
– А ты? – обратился Глебов к Звонкову, забойщику нашей бригады, а в первой своей жизни крестьянину не то Ярославской, не то Костромской области.
– Домой, – серьезно, без улыбки, ответил Звонков. – Кажется, пришел бы сейчас и ни на шаг бы от жены не отходил. Куда она, туда и я, куда она, туда и я. Вот только работать меня здесь отучили – потерял я любовь к земле. Ну, устроюсь где-либо…
– А ты? – рука Глебова тронула колено нашего дневального.
– Первым делом пошел бы в райком партии. Там, я помню, окурков бывало на полу бездна…
– Да ты не шути…
– Я и не шучу.
Вдруг я увидел, что отвечать осталось только одному человеку. И этим человеком был Володя Добровольцев. Он поднял голову, не дожидаясь вопроса. В глаза ему падал свет рдеющих углей из открытой дверцы печки – глаза были живыми, глубокими.
– А я, – и голос его был покоен и нетороплив, – хотел бы быть обрубком. Человеческим обрубком, понимаете, без рук, без ног. Тогда я бы нашел в себе силу плюнуть им в рожу за все, что они делают с нами.
(1960)