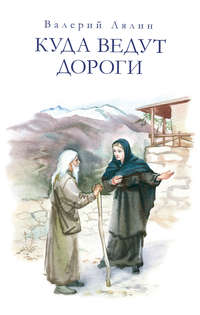Kitobni o'qish: «Куда ведут дороги (сборник)»
© В.Н. Лялин, текст, 2007
© Издательство «Сатисъ», 2007
И было в тот вечер
Уже вечерело, когда мы вместе с безруким лейтенантом тайно вышли в самоволку из военного госпиталя, находившегося в центре Иванова. В этом госпитале, старинном кирпичном здании бывшей женской гимназии, довольно строго преследовали и наказывали за самовольные отлучки в город, но нам, искалеченным, уже нечего было терять, тем более что мы уже были накануне выписки.
У лейтенанта – красивого кудрявого парня – правая рука была отрезана под корень и пустой рукав гимнастерки заправлен за ремень. На груди у него красовались три боевых ордена и медаль «За отвагу». На гражданке он мечтал выучиться на юриста и в палате целыми днями просиживал за столом, учась писать левой рукой. Сейчас он спешил на автобусную станцию, чтобы на ночь уехать в Ильинско-Хованское, где его ждала невеста. Мне же не надо было ехать так далеко, я направлялся на окраину города, где в деревянном просторном доме меня ждали мать, братишка и сестра, эвакуированные полуживыми из блокадного Ленинграда по льду Ладожского озера.
На город надвигались осенние сумерки, и стояла промозглая погода с мелким холодным дождем. С лейтенантом мы расстались у серого деревянного забора психиатрической больницы. За забором слышались крики и вопли, вероятно, больных загоняли в палаты после вечерней прогулки. Из щелей и дыр в заборе торчали просунутые по локоть худые синие руки больных. Это голодные психи просили у прохожих милостыню. Мелкий дождь перешел в мокрый снег, который оседал и таял на ладонях больных и был, пожалуй, единственной милостыней в эти протянутые руки. Да и откуда у прохожих была возможность подать милостыню? Это был голодный город военного времени. Даже в лучшие предвоенные годы город плохо снабжался, потому что он был городом легкой ткацкой промышленности с низкой оплатой труда, и был он богат только дешевой женской рабочей силой. Великой было несправедливостью называть их тяжелый труд в шумных жарких цехах у ткацких станков легкой промышленностью. Этот нелегкий труд могли выдержать только молодые, здоровые женщины – голубоглазые, с коротко стриженными русыми волосами, ровными сахарными зубами и несходящей улыбкой на устах. Это был цвет русской нации, приехавший с берегов Волги и Суры в душные ткацкие цеха текстильных фабрик Иванова. Мужчин в городе было мало, а молодым ткачихам хотелось нравиться и наряжаться, и вот у них появился промысел, дающий прибавку к мизерной зарплате. Они стали сдавать кровь. Молодая горячая кровь ивановских женщин и девушек рекой текла в госпиталя и больницы, тоннами отправлялась на фронт.
Мой путь пролегал через рынок, который бурлил до поздней ночи. Продавцы здесь стояли рядами с однообразным товаром. Главный ряд состоял из торгующих выкупленной по талонам водкой. Мокрые и замерзшие женщины трясли бутылками, показывая покупателям возникающие в горлышке пленки, что должно было быть доказательством, что водка качественная. Без покупателей они не оставались. Покупатели тоже трясли бутылку и, отсчитав смятые рублевки, прятали бутылку в карман. А вот ряд с буханками ржаного хлеба. Хлеб был свежий, с хрустящей корочкой и издавал чудный, присущий только свежему хлебу, запах. Но к этому хлебу не очень-то подступишься, он был дорогой. Самым большим, в два ряда коридором, был участок торговок одеждой. Они стояли, вытянув руки, на которых висели брюки, пиджаки и рубашки, а на головах, поверх платков, красовались кепки, фуражки и шляпы. В основном, это были женщины-вдовы, которые продавали одежду своих погибших на фронте мужей. Это был скорбный ряд, и покупателей здесь было мало.
Весь рынок кишел военными калеками. Они ползали по грязи в кожаных мешках по пояс, ездили на маленьких самодельных тележках – короткие безногие обрубки с грудью, украшенной медалями. Слепые играли на гармошках, одноногие скакали на костылях. Все они предлагали покупателям вертеть рулетку, отгадать горошину под наперстком, кто-то пел песни, кто-то собирал милостыню. Как только у них появлялись деньги, они сразу покупали водку и тут же ее распивали, потом валялись, промокшие, в холодной грязи под забором. У этих калек не было выбора, над ними все еще довлела война. Она была у них в мозгу, в сердцах, в обрубленных культях ног, она приходила к ним в кошмарных ночных снах, и, чтобы уйти от нее, проклятой, они пили, и пили беспробудно.
Дом, в котором жила моя мать с детьми, стоял на краю оврага, где внизу теснились домики и огороды казанских татар. В нашем доме, в верхней светелке, жил и мой двоюродный брат Феликс. Имя его означает – счастливый, но это было просто насмешкой судьбы. Он только что вышел из тюрьмы, где сидел за воровство, и доживал последние дни, страшно кашляя по ночам и выхаркивая кровавые ошметки легких. В тюрьме он проиграл в карты два передних зуба, и улыбка его на обтянутом бледной кожей костлявом лице была жутковата. В тюремной больнице врач сказал, что он может еще поправиться, если будет хорошо питаться, например, часто есть куриный суп. И он старался. Каждое утро он забирался с удочкой в сарай и, насадив на крючок наживку и немного приоткрыв дверь, караулил легкомысленных татарских кур, которые поднимались из оврага и гуляли по нашему двору.
– Ти, ти, ти, – слышался из сарая завлекающий и многообещающий зов Феликса.
Доверчивые куры, опережая друг друга, спешили к полуоткрытой двери. Тут охотник выкидывал из сарая крючок с наживкой, и жадная курица-воструха поспешно склевывала наживку. Тут уж охотник не зевал, быстро делал подсечку, молниеносно втаскивая жертву в сарай, и скручивал ей шею. Держа в зубах толстую, из газеты, самокрутку с махоркой, он деловито ощипывал курицу и, пуская клубы едкого махорочного дыма, говорил в утешение почившей:
– Все там будем.
У него был какой-то странный ритуал: ночью он спускался в овраг и оставлял на пороге татарского дома ощипанные куриные перья.
– Татарам на подушку, – говаривал он.
Наевшись жирного куриного супа и набравшись сил, он шел в отделение милиции, согласно строгому предписанию, чтобы отметиться. Как и у всех чахоточных больных, у него была большая надежда на поправку, но недолго он протянул. Как только весной на реке тронулся лед, так с вешним льдом ушел и Феликс в ту страну, где нет ни тюрем, ни куриного супа, ни водки, ни курева.
В доме меня встретили радостно. Дети бросились ко мне обшаривать карманы. Я дал им по два куска сахара, которые оставил от утреннего чая. Мать мне предлагала поесть каши из пшеничных зерен с горьким льняным маслом. Эту кашу она называла «дубовой», но я отказался, чтобы зря не объедать их.
– Знаешь, Валя, – сказала мать, – сегодня к нам придут люди и священник на молебен и панихиду. Только ты об этом молчи и не говори никому.
Мы с ней посидели. Она показала мне письмо от отца, который был на Ленинградском фронте и сейчас лежал в госпитале, где лечился от цинги и последствий голодной дистрофии. Скоро в дом стали собираться молодые и пожилые женщины. После всех пришел старичок священник. Он первым делом попросил завесить окна. Зажгли керосиновую лампу, и не потому, что в городе не было электричества, но потому, что у нас в доме был исчерпан месячный лимит на электроэнергию, которой много уходило на электроплитку: на ней Феликс в горнице варил себе куриные супы. Священник снял пальто, и я увидел, что под пальто у него была одета ряса, полы которой были завернуты на плечи. На молебен собралось двенадцать молодых и старых женщин, или как говорят в Иванове – женок, со своими надеждами и скорбями. Надеждами на жизнь близких на фронтах и скорбью о тех, на которых пришли похоронки из фронтовых канцелярий, где было написано: «Пал смертью храбрых». Мать застелила стол белой льняной скатертью. Священник положил на него, вынув из саквояжа, требник, целовальный крест, Святое Евангелие, кадило и коробочку с ладаном. Впрочем, это был не росный ладан из Ливана, а русский ладан времен гонения на Церковь, с крепким и приятным запахом. Это были застывшие янтарные слезы, катившиеся по стволам наших еловых лесов. Вперед вышли и встали три старушки, искусные в церковном пении, и приготовились, поглядывая на батюшку. Батюшка надел на шею епитрахиль и начал молебен. Это было молебное пение против супостатов, нашедших на нашу страну. Батюшка, тронув пальцами свой наперсный крест, негромко провозгласил:
– Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Все осенили себя крестным знамением. Старушки вполголоса запели «Царю Небесный, Утешителю…». Пропели: «Спаси, Господи, люди Твоя…».

Батюшка замолк, остановил хор и послал одну из женок на двор осмотреть кругом до́ма, нет ли там какого соглядатая. Наступила пауза. Все молчали. Вскоре женка вернулась и сказала, что кругом все спокойно. И молебное пение продолжалось. Когда батюшка читал Евангелие от Матфея, зачало двадцать первое: Рече Господь: просите, и дастся вам; ищите, и обрящете, толцыте, и отверзится вам, – все благоговейно припали головами в белых платочках к полу в земном поклоне. Из светелки со свечкой в руке выглянул Феликс, посмотрел, ухмыльнулся и снова убрался в свою комнату.
Проникновенно, с любовью, батюшка прочитал записки за здравие с именами воинов. Окончив молебен, для панихиды батюшка раздул кадило, положив туда еловой смолы, и густой синеватый дым клубами поднимался к потолку. Вскоре из светелки с кашлем выскочил Феликс и стал кричать, что его хотят уморить. Мать успокоила его и отослала прогуляться на улицу. Начав панихиду, батюшка запел на восьмой глас тропарь: «Глубиною мудрости человеколюбно вся строя и полезное всем подаваяй…» В конце панихиды, перечислив по заупокойным запискам имена воинов, на фронте за други своя живот положивших, батюшка закончил панихиду, вытряс из кадила в таз с водою зашипевшие угли и сложил в саквояж книги и целовальный крест. Двое женок, попрощавшись, ушли домой, оставшиеся вместе с батюшкой сели за стол. Мать внесла и поставила на стол кипящий самовар, разложила чашки и блюдца. Сахара и чая тогда и в помине не было. Вместо чая заваривали сушеную морковь или лист смородины с мятой. Вместо сахара мать насыпала в чашки немного порошкового сахарина. Все женки развязали принесенные узелки и разложили на столе все, чем были богаты. Здесь были темные ржаные пироги с картошкой, коричневые сухари, и нарезанный кусками застывший гороховый кисель, и вареная картошка в мундире, и белый искусственный жир, называемый «лярд», и куски ржаного пайкового хлеба, и даже яичный порошок из Америки, который женки сыпали на хлеб. Это были яства военного времени. Мать принесенное разделила всем поровну, и агапа, или вечеря христианской любви, началась. Батюшка прочел за трапезой молитву и благословил ястие и питие. А мать мою батюшка во время трапезы назначил читать в Четьих житие святого апостола Фомы, так как был его день – девятнадцатое октября. Остальные молча, слушая житие Фомы-близнеца, приступили к трапезе. Посреди трапезы, когда на дворе уже была темень, вдруг в окнах задрожали стекла от орудийного грохота. Батюшка приподнял занавеску, и было видно, как ночное небо озарялось разрывами снарядов и по небу неровно шарили лучи прожекторов. Это зенитные батареи вели заградительный огонь по немецким самолетам, направляющимся бомбить горьковские и сормовские военные заводы. Ивановские ткацкие фабрики они оставляли без внимания и, слава Богу, не бомбили. Когда все утихло, батюшка проникновенно заговорил:
– Чада мои дорогие, сегодня в этом доме мы тайно собрались на молебен и агапу – сиречь вечерю христианской любви, как это делалось в подземных катакомбах Древнего Рима первыми христианами при жестоких языческих императорах, когда христиан казнили или отправляли в цирк на растерзание диким зверям на потеху римской черни. Нам тоже за это небольшое собрание грозит наказание от советских властей: меня – в лагерь, где я уже отсидел один срок, а вас уволят с работы и тем лишат хлебной рабочей карточки. Но, милые мои, слышал я радостную весть, что ныне восходит заря церковной свободы. Иосиф Сталин однажды ночью вызвал к себе трех наших еще оставшихся в живых митрополитов и как будто разрешил вновь открывать Божии храмы, выпустить из заключения священников и соборно избрать Патриарха всея Руси. Официально этого пока в газетах не объявлено, но верные люди, приехавшие из Москвы, принесли мне эту благую весть. Возрадуемся и возвеселимся днесь. Господь услышал наши молитвы и увидел нашу скорбь. Посмотрите, что делается в вашей Ивановской области: все храмы разграблены, осквернены и закрыты. Народ остался без хлеба духовного в такое тяжелое время войны и скорбей. До революции я служил в большом чудном храме в Старой Вичуге. Храм был возведен на пожертвования купечества. Стены сияли замечательной росписью, под куполом была большая надпись золотом: «Чистые сердцем Бога узрят». Что же сейчас представляет из себя этот храм? Горе горькое, мерзость и запустение. И если эти слухи из Москвы окажутся верными, то, Бог даст, я еще послужу в своем родном храме.
Вот, пожалуй, и все о христианской агапе тех далеких скорбных военных времен в далеком от фронта тылу. И жаль, жаль мне добрый, кроткий и доверчивый русский народ, понесший неисчислимые жертвы в кровавом и безжалостном ХХ веке. Миллионы молодых женщин, состарившись, не оставив потомства, ушли, исчезли с лица земли, так и не дождавшись погибших на фронтах своих мужей. И матери тоже сошли в могилу, оплакивая своих невернувшихся сыновей. Горькая, горькая у тебя была судьба, Русь, в ХХ веке. И я молю Бога, чтобы эта эпидемия бед, несчастий и скорбей не перешла из ХХ века в XXI век, чтобы русский народ вновь обрел утраченную силу и нашу святую Православную веру, которая силою Святой Живоначальной Троицы, Словом Господа нашего Иисуса Христа под Покровом Пресвятой Богородицы возродилась, окрепла, просияла красотой и влилась бы в душу народную, чтобы народ жил и процветал на многия, многия лета.
1998 г.
Диктатор
Как обычно, он проснулся рано – еще не было и пяти часов утра. Большие, в рост человека, напольные английские часы нежно, с деликатной обязательностью, пробили половину пятого. Он открыл глаза, в голове что-то пульсировало и шумело нудным ветряным дутьем.
– Склероз, – подумал он, – старость собачья.
По совету покойного Серго – бывшего фельдшера, которого он выдвинул в наркомы тяжелой промышленности, он в каплях на молоке принимал йодную настойку, хотя это не очень-то помогало. Кремлевским эскулапам он не доверял и только раз в год допускал себя осматривать. Это были маститые академики и профессора, украшенные сединами и иудейскими носами. С каким-то плотоядным удовольствием он наблюдал, как они тряслись и бледнели, выслушивая трубочкой его широкую, поросшую густой черной шерстью грудь. Он взял пачку своих любимых папирос «Герцеговина Флор» и, разломав несколько штук, набил душистым табаком трубку. Щелкнув зажигалкой, закурил, обдумывая свои ночные видения. Всю ночь его давили кошмары, и он часто просыпался от сильного сердцебиения, весь в поту. Чутко прислушиваясь к ночной тишине, он трогал пальцем прохладную рукоятку браунинга под подушкой. Кнопкой звонка вызывал охранника, приносившего ему сухую сорочку. Он переодевался и опять засыпал.
А во всем этом был виноват начальник Генерального штаба, сделавший обстоятельный доклад об оккультной подоплеке фашизма, обо всех рычагах государственной машины, приводимой в движение силою сатанинских учений с таинственных вершин Гималаев и Тибета, куда Гитлер, для заимствования темных древних учений, посылал целую экспедицию из этнографов-оккультистов, ясновидящих и лиц, искушенных в делах черной магии. Одним из плодов этих изысканий явилось создание мрачного оккультного братства дивизии СС. Диктатор сел в мягкое кресло и, попыхивая хрипящей трубкой, глубоко задумался. Страшная, неотвратимая сила германского вермахта в своем железном поступательном движении стремительно поглощала страну. И это была не простая военная сила в своей тактико-стратегической премудрости немецких генералов. Нет, это было извечное инфернальное движение на Восток, поддержанное не только мощной современной техникой, но всеми силами преисподней. Древнее, еще с языческих времен, стремление германских племен на Восток: Drang nach Osten. Окутанный клубами табачного дыма, он почувствовал стеснение в груди и нехватку воздуха. Приняв таблетку нитроглицерина, он встал, распахнул окно в сад, жадно вдыхая свежий утренний воздух.
Военная кампания в начале лета 1942 года с треском провалилась. Ужасающий разгром советских войск под Харьковом открыл путь немцам к Волге и Кавказу. Произошли катастрофические потери в живой силе и технике. На полях сражений остались горы трупов, масса искалеченных, миллионы оказались в немецком плену. Из сада потянул холодный ветерок, по спине пробежали мурашки, и он по-стариковски сразу озяб. Закрыв окно и поеживаясь, вызвал служителя, чтобы тот растопил камин. Дрова, потрескивая, пылали ярким пламенем, но диктатор долго не мог согреться. Именно сейчас он осознал, как близко к гибели государство и дело всей его жизни. Он представил, как его, посадив в клетку, повезут в Берлин и будут показывать в Тиргартене. И немцы будут тыкать в него пальцами и удивляться тому, что этот низкорослый, коротконогий и рябой человечек был диктатором на одной шестой части земного шара.
Его томило и грызло, что борьба идет не на равных. Он не мог ничего противопоставить этой злой оккультной силе. Как марксист, он считал все эти разглагольствования нелепыми бреднями, поповскими фикциями. Однако со временем он убедился, что эти бредни материализовались и воплотились в мощный стальной таран. Он был недоучившимся семинаристом, променявшим Христа на коммунистические иллюзии Карла Маркса. А эти иллюзии оказались бесплодными и привели его – диктатора – к тому, что он сейчас имел. «Черт бы побрал этого старого волосатого еврея, за которым я побежал, как мокрогубый теленок». Он с ненавистью покосился на большой, висевший на стене портрет бородатого классика, рухнул в кресло и схватился за голову: «Вай ме! Что делать? Что делать?!» На него шел сам ад! И он стал думать: все ли ресурсы страны на борьбу с врагом мобилизованы? Не остались ли еще какие-то скрытые резервы? Кажется, что все подчистую было взято и учтено. Да! Осталась только едва живая Православная Церковь с ее блистательным девизом, что и врата ада не одолеют ее!
А раз так, то остается проверить слова Христа, насколько они верны. И если действительно довериться Христу, то страна будет спасена вместе со спасительницей Церковью.
Диктатор не был сентиментальным человеком, но вместе с размышлениями о Церкви на него повеяло ароматом юности, вспомнились года, проведенные в стенах Тифлисской семинарии. Перед ним поплыли образы далекой юности: семинария со своеобразным укладом жизни, степенные священники-преподаватели с тугими косичками волос, горячие, истово верующие друзья-семинаристы. Весна в Тифлисе, цветущие сады, торжественная, душу пронзающая Пасхальная служба в кафедральном соборе «Сиони», от древности по пояс ушедшем в землю. Диктатор, в умилении повернувшись к востоку и возведя к небу коричневые с желтоватыми белками глаза, стал, как в детстве, шептать краткую грузинскую молитву, которой научила его мать: «Упалоше ми цале, Упалоше ми цале». Он вспомнил грузинских святых, на которых веками опирался и уповал его родной народ: Цминдо Георгиос, Цминдо Нино, Шио Мгвинский, Исе Цилканский; Иосиф, епископ Алавердский, Исидор Самтавинский, Стефан Хисский. Ему стало жалко себя, покойную мать, слезы скупо скатывались по коричневым рябым щекам. Но на душе стало легче. В детстве ему мать всегда говорила: «Сынок, я хочу, чтобы ты выучился на священника, и ты сам будешь наставлять наш народ в Законе Божием, а благодарный народ будет целовать твои руки».
Может, так и надо было поступить, как велела мать. И другой диктатор расстрелял бы его за веру во Христа и уложил в братскую могилу. Но, к сожалению, это он делал сам, почти полностью истребив Православную Церковь в стране. Помилует ли его Бог (если Он есть), когда он в покаянии возродит Церковь? Диктатор резко ударил пальцами по раскрытой ладони (характерный грузинский жест) и прокричал:
– Пусть меня унесет в преисподнюю дьявол, если я не амнистирую Церковь, не выпущу из лагерей попов и епископов, не открою семинарии по всей стране, по всей матушке России. Я отверзу двери храмов, чтобы везде запели Пасху и служили молебны за победу русского оружия. Я призову на помощь Церковь и все Святые Силы Небесные, и врата ада не одолеют Святую матушку Русь. Черт меня побери, если я сейчас же не сделаю это, чтобы у меня расселось чрево и чтобы я сдох, как Иуда Искариот, если я отступлю от своего обещания.
Тут он вспомнил, что митрополит гор Ливанских Илия Салиб лично ему прислал письмо, которое он не удосужился прочесть. Он нажал на кнопку звонка и приказал явившемуся дежурному немедленно доставить перевод письма. Жадно схватив украшенный христианской символикой, пахнущий ладаном лист с прикрепленным скрепкой фиолетовым русским переводом письма, он прочел, что митрополит Илия Салиб в посте и молитве ушел в пещерный затвор, где, пробыв довольно долго, сподобился явления Божией Матери, сказавшей ему, чтобы он сейчас, будучи устами Божиими, изрек диктатору России, что победы над врагом не будет до тех пор, пока не выпустят из узилищ всех священников и епископов, пока не откроют храмы Божии и в них не начнется богослужение…
– Какое странное мистическое совпадение с моими раздумьями, – прошептал диктатор, кончив читать письмо. – Оказывается, здесь не так все просто и земное крепко завязано с Небесным, с тем инобытием, о котором мы – коммунисты – забыли в своих суетных заботах и политической игре. Ну что ж, вначале надо пошевелить Лаврентия, немного взбодрить его.
Он снял телефонную трубку и набрал номер.
– Лаврентий, гамарджоба! Здравствуй! Ты уже проснулся? Что? Хорошо спал?! А понимаешь ли ты, сукин сын, что у нас творится на фронтах?! Ах, ты все понимаешь, но, видно, не разумеешь. Так вот, слушай внимательно: тут мы посоветовались с товарищами и решили тебя расстрелять.
– Меня расстрелять?! За что, батоно?!
– Как за что? Во-первых, ты – вор, во-вторых, гарем себе из артисток устроил, в-третьих, не способствуешь нашей победе над врагом.
– Прости меня, Иосиф, прости ради Бога. Последний раз прости, да я из шкуры вылезу, клянусь мамой, да будь я проклят со всем своим родом!
– Ну ладно, прощаю последний раз, но приговор пока будет условно. Посмотрим, как будешь работать дальше. А еще, мы посоветовались с товарищами и решили амнистировать Православную Церковь. Что, ты удивлен?! Стой! Не падай! Записывай: значит, из заключения выпустишь всех церковников с предоставлением им помощи питанием, деньгами и проездом. Откроешь по всей стране храмы Божии и как-то благоустрой, чтобы там началось служение и молебны за победу русского оружия. Откроешь также семинарии. Ты меня понял, Берия? Почему? Что почему?! Так надо!
Доставь ко мне срочно митрополитов Сергия (Страгородского), Николая (Ярушевича) и Алексия (Симанского). За ним надо послать самолет в блокадный Ленинград. Из тюрем и лагерей свези в Москву всех епископов. Будем на Соборе выбирать Патриарха Всея Руси.
Уже с раннего утра по всей стране работала правительственная связь «ВЧ», по всему Северу, Сибири, Магадану и Дальнему Востоку бешено стучали телеграфные аппараты, отдавая приказы в разветвленную сеть ГУЛАГа об амнистии и срочном освобождении всех церковников. По начальству был большой переполох. Никто из них не мог понять, к чему бы это? Но имя диктатора и его правой руки Берии, подписавших приказ, приводило их в трепет и покорность. На европейской части Союза уже вовсю цвело лето, а здесь, в сибирской глухомани, еще лежал снег и по ночам трещали морозы. Двукрылый биплан У-2 ранним утром приземлился лыжами на искрящийся на солнце снежный наст и подрулил к самым лагерным воротам. Выбежавший без шинели начальник лагеря угодливо помог сойти с откидных ступенек тучному правительственному курьеру в ранге полковника госбезопасности и повел его в лагерную гостиницу. Важный посланник, отдуваясь, повалился на старомодный клеенчатый диван и сразу затребовал чаю с коньяком. Пока он с блюдечка схлебывал кипяток и пил коньяк, из барака привели заключенного. Это был высокий, истощенный голодом, болезнями и непосильным трудом старик. У него было серое изможденное лицо, без бороды, с обвисшими щеками и морщинистой шеей. Он снял арестантский колпак и прислонился к косяку двери. На его ветхом ватнике был нашит номер: «В 1977е-103».
– Ну что, папаша-архиерей, поедем в Москву? – отхлебывая кипяток, спросил его энкавэдэшник.
Заключенный вздрогнул, помолчал и тихо ответил:
– Я в таком виде никуда не двинусь, тем более в Москву. Поеду только в архиерейском облачении.
– Ах ты, мразь! Да ты еще фордыбачить, да я тебя в ледяном карцере сгною!
Начальник лагеря поспешно нагнулся к уху посланника и зашептал:
– Напрасно вы так, товарищ полковник. Это не простой архиерей, а профессор-хирург с мировым именем. Лично известен самому. Так что вы с ним поаккуратнее.
Посланник поперхнулся чаем и долго кашлял, посинев и налившись кровью.
– Пусть составит опись своих поповских мундиров, – прохрипел он.
Вызвав летчика, полковник отдал ему приказ лететь в областной город и добыть там архиерейское облачение со всеми причиндалами на шею и посох в костюмерной областного драмтеатра.
А меж тем усилиями всемогущего наркома внутренних дел Лаврентия Берия, к столице неслись поезда и летели самолеты, свозившие из ссылок, лагерей и тюрем архиереев и священников. Но, к сожалению, к тому времени в наличии таковых оказалось немного. Изъятые из музеев и костюмерных духовные облачения висели на этих истощенных людях, как на вешалке.
Из блокадного Ленинграда на скоростном военном самолете доставили в Москву митрополита Алексия (Симанского). Всех архиереев и митрополитов собрали вместе в московской гостинице средней руки. Перепуганные старцы сидели за столом, уставленным невиданными и давно забытыми кушаниями и напитками. Там на узких фарфоровых посудинах лоснились янтарным жиром звенья отварной семги, толпились вазочки с кетовой и паюсной икрой, они перемежались с разнообразными рыбными салатами и другими гастрономическими премудростями. Не обидели старцев и вином, которое тоже здесь стояло в изобилии. На бледных лицах служителей культа были недоумение и страх. Им ничего не объясняли, но обращались вежливо и предупредительно. Особенно был шокирован этим изобилием митрополит Алексий, доставленный из блокадного Ленинграда. Он боялся вкушать эти великолепные яства после долгого голодания, чтобы ему не умереть, а съел только маленький бутерброд с паюсной икрой и выпил стакан чая. Митрополитов Сергия, Николая и Алексия служитель препроводил в отдельный номер и предупредил, что сегодня вечером им предстоит встреча с диктатором. Они боялись комментировать это сообщение, так как знали, что здесь все прослушивается.
Митрополит Николай взял листок и написал: «Что нам уготовал этот лютый тигр, растерзавший нашу Церковь?»
Митрополит Сергий продолжил: «У немцев на фронтах большие успехи, страна и режим близки к гибели. Я думаю, он, как за соломинку, решил ухватиться за Церковь. Я слышал о письме к нему митрополита гор Ливанских Илии Салиба».
Митрополит Ленинградский Алексий дополнил: «Я думаю, что диктатор, как религиозно образованный человек, решил противопоставить демонической подоплеке германского вермахта Русскую Православную Церковь».
После чего митрополит Николай сжег листок и растер пепел в ладонях под струей воды в раковине.
К вечеру к гостинице был подан большой черный ЗИС и митрополитов повезли на ближнюю дачу диктатора. Когда они вышли из машины, охранники тщательно обыскали каждого, прежде чем провести в дом. Там предложили им подождать в приемной, а минут через десять пригласили в гостиную, где за обильно накрытым столом сидел сам хозяин. Он под благословение не подошел, но, слегка кивнув головой, сказал:
– Здравствуйте, святые отцы, прошу садиться в кресла. Знаю, знаю, что вы мученики и Ангелы наши земные, поэтому, чтобы не согрешить и не оскоромиться, все здесь на столе приготовлено рыбное, постное: грибки соленые, икра, пироги с вязигой. Садитесь, покушайте, чем Бог послал, выпьем во славу Божию и поговорим по душам. Глядишь, после этой беседы и грехов у меня поубавится.
Старцы поклонились вождю и уселись за стол. Митрополит Сергий благословил трапезу и прочитал молитву перед вкушением. Митрополит Алексий с удовольствием отметил, что посторонних за столом не было. Только иногда заходили служители в белых перчатках, что-то убирали со стола и что-то ставили. Диктатор улыбнулся, прищурился и обратился ко всем троим старцам, одновременно наливая им в бокалы его любимое вино «Хванчкара»:
– Так вот, дорогие мои, я пригласил вас, чтобы сообщить вам (звучит, как у Гоголя), да, чтобы сообщить вам некоторое приятное известие. Тут мы посоветовались с товарищами и решили возродить Русскую Православную Церковь во всей ее былой красоте.
Старцы удивленно откинулись на спинки кресел, а Николай даже выронил вилку, звякнувшую о блюдо.
– А как же ваши коммунистические принципы и идеи? – спросил он.
– Знаете, дорогой мой Владыко, – ответил хозяин, – во всяких принципах, идеях, а также в политике всегда имели место и будут иметь во веки веков некоторые зигзаги. Политика должна быть гибкой и целесообразной. Вы меня поняли, святой отец?!
– Понял.
– А что вы можете сказать по этому поводу?
Владыка Николай деликатно откашлялся и сказал:
– Если хотите знать мое мнение, то это решение правильное и своевременное. Идет страшная война с германским фашизмом, и народ нуждается в поддержке духовной и утешении, так как в каждой семье есть погибшие и раненые.
– А что скажет митрополит Алексий, разделяющий с народом тяготы и страдания ленинградской блокады?
– На ваш вопрос я отвечу, что больше немецких пушек и танков нам надо сопротивляться и противостоять той оккультной эзотерической идеологии, с которой идет на нас немецкая армия. Я с детства знаю немецкий язык и иногда по радиоприемнику слушаю передачи из Германии на Восточный фронт. И я просто поражаюсь, какой бесовщиной и демоническими идеями они насыщают своих солдат.
– Вы верно заметили, Владыко, я так и думал, – раскуривая трубку, сказал диктатор. – Так что́, по-вашему, в первую очередь должно сделать советское правительство?
Bepul matn qismi tugad.