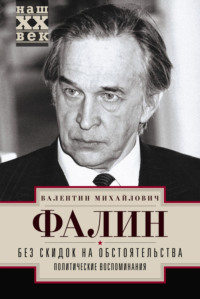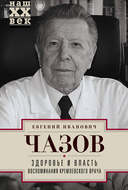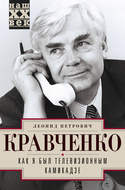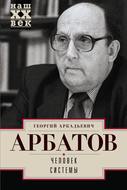Kitobni o'qish: «Без скидок на обстоятельства. Политические воспоминания»
© В. М. Фалин, 2016
© ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2016
* * *
Посвящается Нине, моей жене.
Ей я обязан жизнью, читатель – появлением этой книги
От автора
Предлагаемая вашему вниманию, уважаемый читатель, книга была написана по настоянию моих немецких друзей. Их интересовала в первую очередь подоплека развития германской политики СССР. Это предопределило структуру и соотношение различных частей изложения. Весьма скупо оказались освещенными американское и китайское направления советских интересов, отношения с Англией, Францией, Италией, с рядом авторитетных стран «третьего мира», с Кубой и нашими бывшими союзниками по Варшавскому договору.
Незаслуженно опущены имена многих достойных людей, особенно из области науки, искусства и культуры, с которыми меня связывали и связывают десятилетия тесных дружеских отношений и симпатий. Это ни в коем случае не должно восприниматься за признак отчуждения или забвения, может быть, самых светлых страниц из собственного прошлого.
Еще одно замечание во избежание недоразумений. Часть диалогов передается в книге в форме прямой речи. Естественно, это не стенографическое, а смысловое воспроизведение имевшихся разговоров. Перед изданием немецкого варианта книги автор во избежание неточностей отдавал соответствующие разделы рукописи на просмотр своим партнерам из ФРГ. В ответ были высказаны пожелания семантического свойства, не менявшие сути. Это укрепляет меня во мнении, что позиция остальных персоналий также не претерпела под моим пером искажений, по крайней мере намеренных.
На мой взгляд, было бы неверно готовить специально русскую версию «Воспоминаний». Тем более что автор не склонен гнуть шею либо вертеться флюгером, согласуясь с новейшими поветриями. Малевать прошлое в один цвет – любой, не только черный – удобно, ибо освобождает от сомнений в настоящем и раздумий о будущем. Стоит ли принимать удобство за позицию – это особый вопрос.
Округа одинаковая, но каждый тем не менее живет в своем мире, подметил умный философ. Значит, чему быть – того не миновать.
Тебе следовало идти путем человечества, а не касты. Сделавшись членом последней, ты уже не мог не повиноваться законам ее.
Из дневника А. В. Никитенко – литератора и цензора, выпускавшего в свет первое посмертное Собрание сочинений А. С. Пушкина. Запись датирована днем кончины поэта
Вместо предисловия
«Как было – не напишешь, как не было – писать не стоит труда» – так на протяжении доброй дюжины лет отнекивался я в ответ на обращения друзей и издателей, многократно побуждавших меня взяться за перо и повести читателя за кулису событий, свидетелем и участником которых мне выпало стать. Это было твердо сложившееся мнение не вверять бумаге чувства и мысли, а чтобы соблазны не искушали, дал себе зарок дневниковых записей не вести, копии служебных документов не снимать, не подбирать вырезок из журналов, газет, кои зачастую и складываются в мемуары. Численник – вот единственное исключение, которое я себе позволил, чтобы не заблудиться в тысячах дат и имен, скапливавшихся с годами. Если возникнет вопрос: «Когда что-то случилось и кто при сем был?» – ответ должен был быть под рукой.
Почему созрело решение отозвать данный самому себе обет молчания? Формально ведь и прежде мне не вешали замок на уста, а сам я в дискуссиях не на публику, при встречах с коллегами по науке или прессе отнюдь не цеплялся за спасительное – чем короче язык, тем целее зубы. Причем не только в пору вседозволенности, прозванной для благозвучия гласностью, но также ранее, в долгую полярную ночь воздержания, когда языки усекались вместе с головой.
Причин и резонов не подражать иным образцам, не доводить, как выражались наши острословы, моду до крика имелось много. И разных. Мои партнеры и собеседники, домашние и иностранные, исходили из того, что я не злоупотреблю их искренностью и доверием, не стану по отношению к ним потребителем.
Почти сорок лет провел я сначала у подножия, затем на разных этажах советского Олимпа. На бумагу, что исписал, сочиняя без счета аналитические записки и ноты, проекты договоров и деклараций, послания и телеграммы плюс речи, интервью, статьи, фрагменты книг, и все под псевдонимами от Н. С. Хрущева до М. С. Горбачева, от официозного А. Александрова до инкогнито В. Капралова, загублен был, наверное, не один гектар леса. Сочинял без лести, преданный интересам Отечества, и без подобострастия к генеральным секретарям, премьерам, министрам.
На вкус некоторых, держался я слишком высокомерно, не по чину независимо. Соответственно меня воспитывали, тщась задеть самолюбие по мелочам, а то и по-крупному.
Представили к высшему ордену. Секретарь ЦК партии М. А. Суслов и другой «старец наверху» замечали: «Непедагогично сразу награду такого достоинства; еще успеет заслужить, ему ведь сорока нет». В 1966 г. мою кандидатуру примеривали на пост посла в Великобритании. Отставили – «склонен к своеволию и нужнее в Центре». Замыслили «обкатать» на должности заместителя министра иностранных дел. Шелестят формуляры, доискиваются, не состоял ли я в родстве с карбонариями или с занесенными в списки безвестно пропавших в войну. Подумали и передумали. Формальный повод: «Не имеет опыта самостоятельной работы».
Чудаки! Им и в голову не приходило, что мое равнодушие к карьере и знакам отличия – не поза. Ни разу я не просил предоставить мне ту или иную должность в государственном или партийном аппарате. Это меня приглашали выполнять определенную работу на приемлемых или называвшихся мною условиях, решающее из которых неизменно гласило – право иметь собственное мнение. Предоставляя мне слово, начальство знало наперед, что услышит не заказную мелодию, ласкающую слух, но, может быть, неудобное, подчас колючее суждение. Постепенно уверовали, что не столкнутся со мной на ярмарке тщеславия, и принимали это как данность, как неудобство.
Невидимые миру слезы, сказал бы Н. В. Гоголь. Они сегодня как прошлогодний снег, заметит циник. Спору нет, но я стараюсь достоверно объяснить, чему обязан относительным политическим долголетием, как удалось во всех передрягах уберечь собственное кредо и не растерять главное свое богатство – расположение друзей, сделать понятным, наконец, почему непросто мне преодолевать звуковой барьер. Даже теперь, когда все рушится, когда сплошь переиначиваются опознавательные знаки, флаги, шкала ценностей и происходят перемены на микро– и макроуровне, требую от каждого занять четкую позицию – без обиняков.
На дворе инфляция, гиперинфляция идеалов. Бывший Советский Союз – сплошное торжище. В политике за жалкие сребреники или вовсе по нулевому тарифу сбываются достоинство и честь, распинаются убеждения. Такие понятия, как уважение к наследию народа и благодарность отцам, вызывают гомерический хохот. История в очередной раз деградирует в королевство кривых зеркал, в прислужку текущей корысти. И чем скуднее знания, тем хлеще набор фраз. Чем безграничнее власть, тем раскаленнее клеймо.
Глядя на рвущихся поплясать на руинах Отечества, невольно ловишь себя на мысли, сколько, оказывается, у нас было потенциальных героев и еще, сверх того, провидцев, отсиживавшихся до поры в кустах. А прилипал, коим быть лишь бы вблизи кормил и кормушек, без разбора, – им несть числа, их – тьма.
Ладно бы молодежь – ей от века положено стоять чуть левее (или правее) здравого смысла, посягать на лежачий камень, под который без ее фрондерства вода не потечет. Но перезрелые мужи и молодящиеся старцы в роли болтающихся между полями притяжения маятников? Постыдное зрелище. О них писал поэт: «Дикость, подлость и невежество не уважают прошлого, пресмыкаясь перед одним настоящим».
Неужто мы все те же язычники, что и в канун возникновения российской государственности? Так же при прощании несем на костры живых и несметные сокровища. Прежде – во славу, ныне – в отместку, раньше – за упокой души человека, теперь – системы. Вот, пожалуй, и вся разница. Зреть подобное и смолчать?
История состоялась. Не по идейному ранжиру и не по графику, вычерченному кабинетными политологами. В нашем столетии она выказала запредельно крутой нрав. Пороки так долго и упрямо теснили добродетели, что от восторгов, которыми привечали рождение «золотого XX века», не осталось следа. И мы, перегруженные разочарованиями и тревогами, понуро плетемся в свой судный день, навстречу третьему тысячелетию.
Да, словно про каждого из нас и наших современников написал французский писатель XVII в. Жан де Лабрюйер1: «Большинство людей употребляет лучшую пору жизни на то, чтобы сделать худшую еще печальней». И просится добавить – омрачить не финал лишь собственной биографии, а участь тех, кому придется разгребать напластования проблем, оставляемых нами после себя.
Все стало ныне более относительным и временным, чем когда-либо прежде. Сама жизнь берется взаймы под высокий процент. Уже жизнь не отдельного индивидуума, но наций, человечества в совокупности. А временщики, согласитесь, в любую эпоху и при всяком режиме – почти сплошь хищники, как бы они себя ни величали. Временщики особенно падки сводить дело к категориям чистогана, упрощать сложные проблемы так долго и усердно, покуда целостный мир для всех не сведется к замкнутому мирку для одного себя. Законченному эгоисту и в голову не придет, что его «сегодня» тоже вышло из «вчера» и что своим сиюминутным он не вправе истреблять чужое «завтра». Эгоисту удобнее не донимать себя мыслью, что не столько соседство, сколько связь времен делает нас цивилизацией.
Все стало относительным и лабильным, сказал я и осекся. Неверно это. Не само по себе стало. Наши неразумение и прихоти сделали Землю менее приветливой для житья. Главной заботой ведущих правительств в XX столетии было приспособление планеты к запросам геополитики разных мастей и калибров, к горячим и холодным войнам, «ограниченным» и тотальным. И никто не сможет, не насилуя истину, утверждать, что на этом шабаше он являлся лишь созерцателем.
Говорят, время лечит. По прошествии ряда лет действительно можно более верно оценить масштабы случившегося. Но время не в состоянии отменить того, что свершилось или могло свершиться. Даже богам не дано сделать бывшее небывшим, предупреждали античные греки, призывая – так, наверное, надо их толковать – не совершать ничего, в чем пришлось бы позже раскаиваться.
Чтобы познать явление, надо понять его суть. Но чтобы понять, надо знать. Только знание освобождает от предрассудков, обладающих демонической силой. Запреты на знания, как и опасные для жизни недуги, удается порой одолевать. Хотя делать это не становится проще.
В век сплошного популизма вы лишаетесь права на личную, без соглядатаев жизнь, на неприкосновенность своей чести. Вызвать оскорбителя на дуэль невозможно и даже противозаконно. Извольте просить милости у суда, где вашу честь станут полоскать в параграфах, писанных чуждым почерком, утюжить до стандарта, да еще на виду у любителей таких зрелищ.
Что остается? Не в состоянии вызвать на дуэль – говори правду. Правдой можно сразить, но нельзя никого оскорбить, если она – подлинная правда, вся правда, и только правда. Убежден, что человек сохранит свое достоинство, если будет держаться правды.
Игнорирование фактов не отменяет порожденных ими обстоятельств, но усугубляет последствия. В этом смысле большинство нынешних проблем есть, по сути, плата за недоделанную вчера работу, за не распознанные вовремя императивы, за неумение или нежелание жить по совести. Тут заключен урок на будущее.
Если вспоминать, то очень не хотелось бы, чтобы боль за настоящее и тревога за будущее завели меня на тропу оппортунизма. Конечно, надо бы уберечь себя, читателей и от других крайностей. Воины Тутмоса I, что правил в Древнем Египте, вернувшись из похода, рассказывали о «перевернутой воде» (Евфрат), которая движется вниз, тогда как «истинный поток» должен, подобно Нилу, катить воды «вверх».
Воспоминания есть путешествие в прошлое – в область, которая уже принадлежит всем вместе и никому в отдельности. В любом случае не принадлежит тебе исключительно и ты не вправе распоряжаться им в одиночку. В политике личных воспоминаний вообще не бывает. И для меня это – воспоминания о Родине, о трагедии моего народа и моего поколения, о канувшей в Лету тысячелетней российской истории.
Воспоминания, если заниматься ими всерьез, не придавая новейшим познаниям обратной силы, не выхватывая из прежнего лишь светлые и яркие полосы спектра, – жанр сложный и противоречивый. Заново все пережить, свести воедино то, что лежит на поверхности, и то, что быльем поросло. Предстоит воскрешать то, что терзало душу, приводило в отчаяние, что сам старался предать забвению, как дурной сон.
Воспоминание-раздумье или воспоминание-проклятие? Что на дворе – конец света или свет начала? Образумимся мы, поймем наконец, что из ненависти высеется ненависть, из зла – зло, из низвержения – низвержение? Терпение – основа всякой мудрости, терпимость – единственный путь к согласию. Хотя бы намек на терпимость и терпение, с ними пришла бы надежда. Где они?
Как наловчились мы рассуждать о естественных правах человека, ставя в нужном месте точку и выводя за скобку их же естественные пределы, позволяющие другим членам общества пользоваться одинаковыми свободами. Оглянитесь вокруг, почти никто с открытым забралом не бросается на политическую справедливость. Почему же ее как не было, так и нет? Хотя со времен Аристотеля известно, что она достижима. При некоторых предпосылках. Справедливость «возможна, – учил философ, – лишь между свободными и равными людьми, а гражданин – это тот, кто столько же властвует, сколько и подчиняется власти».
И последнее. Узелков для памяти я не вязал. А если бы попутала страсть стяжательства «будущих разоблачений» и свидетельств человеческих несовершенств, чужих понятно, то, скорее всего, эту гремучую смесь постигла бы та же судьба, что и мой численник. В нем отражались, повторюсь, даты встреч с иностранными деятелями и соотечественниками за последние тридцать лет. Имена и числа. Сотни и тысячи имен. Ничего больше. Численник пропал в августовские дни 1991 г. Мало что говорящий постороннему, он значил для меня не меньше, чем нотные знаки в партитуре для музыканта. Где он, этот численник, что с его использованием разыгрывается?
Крайне урезанными будут возможности воспроизвести тексты телеграмм, писем, докладных записок. Лично я не слишком высокого мнения о мемуарах, сшитых из документальных лоскутков, которые тщательно отбираются по рисунку и цвету, нередко выворачиваются наизнанку в угоду насущному интересу. Но для перепроверки метаморфоз собственных оценок, которые, разумеется, не враз сложились в систему взглядов, они не были бы лишними.
Придется, стало быть, полагаться в основном на память. При всех несовершенствах этот инструмент обладает и некоторыми преимуществами – он более искренен, чем любая протокольная запись, спрессовывающая многочасовой диалог в пару сухих страниц и выпячивающая какую-то грань, которая представлялась утилитарно важной в момент самой беседы и сбрасывающей в небытие детали, возможно служившие прибежищем дьяволу или, напротив, дарившие уникальный, неповторимый шанс.
Как совместить величины несочетаемого порядка, не смешать краски в тусклое бесконтурное пятно, не поддаться искусу нарисовать политическую реплику «Черного квадрата» художника Казимира Малевича, только еще темнее? «Единственная форма, в которой мы можем выразить свое уважение к читателю, – вера в его ум и душевное благородство», – заметил однажды драматург Бертольт Брехт.
Попробуем в меру сил последовать этому доброму совету.
О себе и про себя
С чего начать повествование? Ведь так и подмывает позаимствовать у А. С. Пушкина – «…и с отвращением читая жизнь мою». На что истрачены безвозвратно силы и годы? Не все и не всегда зависело от тебя. Верно. Обстоятельства, в которые ты попадал или сам загонял себя, могли быть сильнее. Тоже факт. Но, положа руку на сердце, разве тебе наглухо была закрыта возможность учинить вселенский скандал системе, когда она попирала здравый смысл и мораль? Почему же ты довольствовался спорами с ее апостолами и полагал, что, не сдавая собственного мнения, исполняешь свой долг?
Толстовская триада «кто ты, что ты, зачем ты», сколько помню себя, не давала покоя. Политику не почитал за призвание свое и чаще тяготился ею. Будь мне дано прожить жизнь заново, держался бы я на почтительном расстоянии от племени, кичащегося присвоенным правом повелевать миллионами людей, вершить за других, знать, в чем должно заключаться их счастье и несчастье.
Вполне может быть, что в науке или искусстве, к которым тянулась моя душа, я затерялся бы среди многих равных. Зато вне политики несказанно проще оставаться в ладах с собственной совестью и в час заката не доискиваться оправданий, ради чего ты существовал на свете и кому-то умышленно или ненароком преступил дорогу.
Друзья подтвердят – эти мои мысли знакомы им издавна, они не рефлекс на события последних лет, круто повернувшие также и мою личную судьбу. Остается сожалеть, что сомнения и размышления не отлились ко времени в решимость подвести черту под одной жизнью, чтобы начать другую, а надежды, что, всем разочарованиям вопреки, общество социальной, национальной, человеческой справедливости достижимо, что гражданин не из-под палки, а по велению разума может стать добрым соседом, даже другом, не теряя при этом собственного лица, побуждали ко все новым и новым повторам официальных догм.
В свое извинение нам нередко говорят – один в поле не воин или одна ласточка весны не делает. Но позволительно взглянуть на это и иначе. Без ласточки весны тоже не бывает, и один воин способен решить исход целой кампании, стань его энергия и самоотверженность той каплей, что склонит чашу весов. Выжидать, пока кто-то другой попотеет и рискнет, и постараться не запоздать к сбору урожая с чужих мыслей и усилий? Обычай распространенный. Он в арсенале и у тех, кто не упустит случая сослаться на И. Канта и его завет – каждый должен действовать так, как если бы он был в ответе за все человечество.
Перебора иллюзий не было у меня. Опыт жизни никак не способствовал тому, чтобы забылся горький сарказм русского юриста А. Ф. Кони: «…в Отечестве нашем, богатом возможностями и бедном действительностью…» Разве что в первичной фазе перестройки я изменил себе.
Моя мать на дух не переносила М. С. Горбачева, поэтому, видно, к ее телефонному аппарату, как выяснилось позже, пристроили прибор для подслушивания. Я пытался безуспешно переубедить родительницу, доказать ей, что новый лидер обладает задатками для возрождения страны. Жизнь матери оборвалась практически день в день с панихидой по Советскому Союзу. Она видела все и сопереживала, но не припомнила мне моего заблуждения. Скорее простила.
Никто из нас внутренне не свободен настолько, чтобы подняться над средой и тем более над собой. Истина в обыденном понимании – чаще всего то, во что хочется верить. Или что мы приучены почитать за истину. В политике это проявляется весьма контрастно. Жизнь каждого вступающего на политический паркет как бы расщепляется, обретает грани с различной конфигурацией и светопреломлением.
Настоящий политик, как и ученый, не может не быть человеком противоречий, то есть постоянно ищущим, опровергающим, не в последнюю очередь самого себя, допускающим и выдвигающим альтернативы. И в политике самые лучшие мысли – незаконнорожденные, не приседающие в тишайшем поклоне перед так называемыми «классиками», или, на британский манер, «авторитетами». Повторенная мысль может стать постепенно убеждением. Что и случилось в 70–80-х гг. Упустили, правда, позаботиться о предотвращении того, чтобы убеждения за отсутствием дел не выродились в слова.
«Мы обещаем соразмерно нашим расчетам и выполняем обещанное соразмерно нашим опасениям». Это не продукт холодной войны, не шлак от противостояния Запад – Восток. Меткое наблюдение сделано в XVIII в. Наше время, однако, придало ему иное качественное измерение.
Люди ведут себя чаще как единоверцы, а не как единомышленники. Общность веры не предполагает обязательно единства действий. В противном случае конфликтов между сообществами одинаковой конфессии не должно было бы быть. Получается, что, провозглашая общие цели, выражая эту общность в совместных коммюнике и декларациях, правительства, партии, политические деятели остаются каждый при своем мнении и интересе.
В 1964 г. мне довелось сопровождать министра иностранных дел А. А. Громыко в Италию. Заключительным аккордом встреч с итальянскими государственными, политическими деятелями, а также деловыми кругами непременно должно было стать двустороннее заявление. Для его составления понадобились затяжные – за полночь – сидения, с привлечением словарей, досье, хранивших формулировки, что применялись в подобных ситуациях на Западе и Востоке. Под свежим впечатлением сизифова труда я набросал эпиграмму: «Сколько сил истрачено, дабы текст отгранить, чтобы твердость звенела, как звенит гранит, чтобы нежность прозвучала искренне, чтобы ложь показалась истиной».
Их было в избытке, дипломатических опусов, подобных итальянскому, до и после. Исполненных пафоса, реже гнева, кратких или длиною с товарный поезд. Конечно, они накрепко забыты, как и положено творениям, обслуживающим преходящую потребность. Так и подмывает пропечатать: безвременье апеллирует к эпохе. Но не станем спешить с обобщениями.
Вспомним, что в 40–50-х гг. демилитаризация международных отношений наравне с нейтрализмом и неприсоединением слыла за нечто «аморальное» (госсекретарь США Дж. Ф. Даллес), за «происки Москвы». Встречи государственных деятелей Запада с восточными коллегами имели тогда главным своим назначением демонстрацию невозможности мирного сосуществования и, следовательно, необходимости продолжения и наращивания гонки вооружений. В такой атмосфере подтверждение – хотя бы словесное – объективной ценности мира и готовности признавать его за путеводную звезду было более чем осмысленным. Как, впрочем, и двадцатью – тридцатью годами позже.
«Разоружение и пацифизм сегодня на подъеме, и это могло бы оказать губительное воздействие на судьбу Запада». Бывший президент США Р. Никсон написал сие не по следам «кухонной склоки» с Н. С. Хрущевым или под гнетом Уотергейтского скандала, а в момент обозначившегося прорыва к договоренности по ракетам средней дальности («Чикаго трибюн», 20 марта 1988 г.). Подобных откровений по обе стороны Атлантики было пруд пруди.
Декарту принадлежит афоризм: «Мыслю – значит существую». В наше время его слагаемые поменялись местами: существую потому, что мыслю. Самое позднее завтра надо будет обязательно добавить: мыслю не вообще, а только категориями взаимопонимания и согласия.
Я еще не объяснил, как меня занесло на орбиту, с которой сорок лет черпались кадры для внешней политики.
Вторая мировая война затронула каждого человека в Советском Союзе. Никому не было дано отгородиться от совершавшейся драмы. По моей семье нацистская агрессия прошлась, не скупясь на жестокости. Ее жертвами стали мать и сестра отца с пятью детьми, трое из четверых детей другой его сестры, их мужья, близкие и дальние родственники по линии моей матери, жившие в Ленинграде и его окрестностях. Если прибавить погибших в семье моей жены, то и получится, что среди 27 миллионов советских людей, чью жизнь оборвало гитлеровское нашествие, 27 человек – мои родственники или свойственники.
О чем должен был я думать, что чувствовать, когда замолкли орудия и разверзлась бездна утрат? Без малого семь десятилетий минуло с тех пор, но ком подступает к горлу, стоит мысленно перенестись в весну 1945 г., с на редкость буйным цветением на пропитанных кровью и потом просторах.
Непостижимо – нация, которую у нас привыкли почитать за образец организованности, порядка, культуры, народ великих философов и ученых, поэтов и композиторов породил океан зла и горя. Что же точнее передает его сокровенную суть – высокий дух или кованый сапог? Не хотелось и невозможно было поверить, что дьявольское наваждение нацизма свело опыт двух тысячелетий к всепожирающей жажде господства над миром, за полдюжину лет превратило немцев в гуннов.
«Гитлеры приходят и уходят, немецкий народ, немецкое государство остаются» – эта высокая политика, продиктованная соображениями державного масштаба, меня в 1945 г. мало трогала. Обещая что-то на будущее, она не отвечала на навязчивый вопрос: кто есть в действительности эти немцы? Оборотни или сами жертвы? Если жертвы, то жертвы кого и чего?
Войн больше не должно быть, никаких: ни малых, ни больших. Ни атомных, ни обычных. Это однозначно. Но желаемое само собой не превратится в действительное. Что нужно застолбить на примере германского агрессора, чтобы никому неповадно было хвататься за меч? Ответ коренился в прошлом. Докопаться до истоков. Иначе останется безвестным палач моего двоюродного не полных пяти лет от роду брата и бабки, которой было уже под семьдесят.
Несчастья, обрушившиеся на семью, понудили меня всерьез заняться германской проблемой в ее самых разнообразных проявлениях. В моей альма-матер, Институте международных отношений, выбран немецкий язык и германистика как профилирующее направление. С одержимостью я набросился на библиотеку, в которую перепало кое-что из трофейного фонда книг по культуре, политике, экономике, истории Германии XVIII–XX вв.
Элемент случайности и тут играл свою роль. Но по закону больших чисел или в силу каких-то других закономерностей почти каждая книга и любая неформально выполненная исследовательская работа, к примеру по буроугольной промышленности Германии, чем-то обогащала. Обогащала хотя бы дополнительными неясностями, сомнениями в том, что кто-то все заранее за нас мог передумать и оставить в подарок толстенный том патентованных решений на все случаи жизни и на все времена.
Студенты склонны к сокрушению святынь. Свежее, неизленившееся и еще не растленное сознание, стремление, присущее каждому или большинству вступающих в жизнь, искать свою идейную высоту, а не обязательно стойло с гарантированным рационом удобств не было изничтожено, несмотря на все старания властей уподобить советскую высшую школу неким прототипам из Средневековья.
О мировоззренческой «чистоте» пеклись не одни дядьки – начальники курсов. В 1946–1948 гг. МГИМО попал в полосу репрессий. Слухи ползли самые разные – кто-то при поступлении на учебу скрыл, что якшался с «врагами народа». Других вроде бы разоблачили в связях с реальным врагом в годы войны. Третьих, как А. Тарасова, моего однокурсника, якобы уличили в принадлежности к «тайной группе», изучавшей по ночам книги Л. Троцкого, Н. Бухарина и других ниспровергателей сталинизма.
Как бы то ни было, вы не могли быть уверены в том, что, придя утром в институт, не обнаружите пустующим стул соседа, вполне приличного, по вашему личному впечатлению, молодого человека. А еще через неделю-две окольными путями становилось известно, что такой-то исключен из партии или комсомола. Далее следовала отшлифованная на тысячах и тысячах жертв формулировка – «за действия, не совместимые с членством в ее (его) рядах».
Мы были не в состоянии пренебречь происходившим, абстрагироваться от реалий. И все же. Даже в удушливой атмосфере подозрительности и доносительства можно было не расстилаться перед оболванивателями, не строить из себя мини-вождей или прихвостней идиотизма с его кампаниями против «формализма в искусстве», «космополитизма», «вейсманизма-морганизма».
Больше того, сходило с рук, когда, скажем, на семинарах по политэкономии и марксизму-ленинизму – к ужасу соответственно доцента Тяпкина и старшего преподавателя Макашова – мой друг Р. Белоусов и я с невинным видом просили разъяснить, как наличие денег совмещается с отсутствием в Советском Союзе рынка или как понимать тезис в «Истории ВКП(б). Краткий курс», что российский рабочий жил в нищете, если несколькими страницами ниже утверждается, что он зарабатывал около рубля в день, по реальному соотношению намного больше советского рабочего.
В 1950 г. я вовсе впал в ересь, выступив с критикой модного тогда фильма «Падение Берлина». Мне, по-видимому, повезло. Так или иначе, слова «фильм вредный и антиисторичный, ибо сопрягает все будущее страны с жизнью и деятельностью товарища Сталина», остались без видимых последствий. Слова неосторожные, сорвавшиеся с языка, потому что кто-то вызвал меня на полемику.
Не исключаю, что благополучным финалом я обязан вдумчивому сотруднику службы безопасности, решившему разобраться, что за фрукт этот студент, который по 12–14 часов на дню корпит над книгами, не посетил за годы учебы ни одной вечеринки, все летние и зимние каникулы провел в библиотеках, живет на стипендию, а когда денег совсем нет, ходит в институт пешком и питается хлебом единым. Сегодня подобный аскетизм мне самому вряд ли оказался бы по плечу. Но в первые послевоенные годы у нас были заниженные представления о насущных потребностях и в чем-то другой взгляд на собственные обязанности.
Июнь 1950 г. Директор Института международных отношений вручает мне диплом с отличием. «Юрист-международник, референт-переводчик по странам Восточной Европы» – так определена в дипломе моя специальность. Что дальше? Есть предложение продолжить учебу в институтской аспирантуре. Заманчиво – не надо менять привычный ритм и образ жизни. Невозможно – болен отец, пора помогать родителям. Последнее, наряду с некоторыми другими личными переживаниями, склоняет в пользу командировки в Берлин, где я должен трудиться в аппарате Советской контрольной комиссии для Германии, пришедшей после образования ГДР на смену нашей военной администрации.
В самой комиссии меня определили в подразделение, занимавшееся сбором и анализом данных по Западной Германии. Это предопределило участие – буквально с места в карьер – в различных мероприятиях, касавшихся проблематики отношений между ГДР и ФРГ, связей между партиями, общественностью, деловыми кругами двух республик, во встречах с видными представителями Запада и Востока, в подготовке предложений и информации, докладывавшихся Сталину.
Летом 1951 г. по возвращении в Союз меня сразила болезнь. Осень и зиму провалялся в госпиталях, а когда врачи благословили на продолжение «под наблюдением невропатолога и терапевта» профессиональной деятельности, опять встал перед ребусом, куда податься. Отец готов поддержать план с учебой в аспирантуре. Уже выбрана научная область. В политэкономии видится ключ к пониманию перипетий бытия. Сданы экзамены. Определились научный руководитель и тема диссертации. И тут выявляется – абитуриент должен пройти «собеседование» в райкоме ВКП(б). Политэкономия отнесена к сфере особо опекаемых партией научных дисциплин. У райкома партии, однако, другие заботы – он, как и все остальные партзвенья, занят подготовкой к XIX съезду. Предложено ждать.