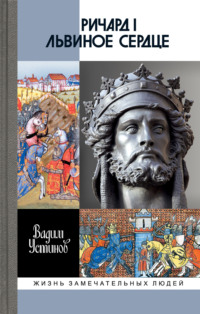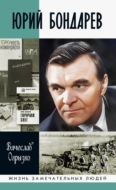Kitobni o'qish: «Ричард I Львиное Сердце. Повелитель Анжуйской империи»
Когда его оплакивают двое,
А третий про него же говорит худое,
То я невежеством считаю это…
Жиро де Борней, Ламентация на смерть короля Ричарда
© Устинов В.Г., 2025
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2025
Предисловие
Тех лишь не хулят, кто зависти не стоит
Громкой славе Ричарда I Львиное Сердце мог бы позавидовать любой другой правитель, даже из числа неоспоримо великих. Само имя его отзывалось победным звуком боевых труб в сердцах современников и потомков, в их глазах он представал идеальным воплощением рыцаря.
Именно в этом качестве образ короля усиленно эксплуатировался литераторами. Хронисты не жалели восторженных слов, восхваляя своего кумира.
Он обладал доблестью Гектора, великодушием Ахилла, не уступал Александру, был не менее отважен, чем Роланд. Более того, он легко превосходил во многих отношениях и людей своего времени, наиболее достойных похвалы. Его «десница осыпала богатством»1, в этом он был подобен второму Титу. Помимо прочего, он обладал красноречием Нестора и благоразумием Улисса, позволявшими ему затмевать остальных в любом деле – в речах или в поступках. И это весьма удивительно для того, кто прославился как солдат2.
Относительно блестящих достоинств Ричарда с его сподвижниками вполне соглашались и враги – мусульмане, принадлежавшие к другой культуре, другой вере и занимавшие другую сторону в конфликте, сотрясавшем Святую землю. Их суждение о короле Англии в каком-то смысле интереснее для нас, живущих много веков спустя, чем даже мнения соратников-христиан. Оно, свободное от ангажированности, позволяет сделать более объективные выводы о том, как воспринимали Ричарда Львиное Сердце те, кому довелось жить с ним в одно время. Баха ад-Дин бин Шаддад, приближенный Салах ад-Дина, войсковой кадий Иерусалима и очевидец Третьего крестового похода, писал о предводителе неприятельского войска весьма комплиментарно.
Король Англии был очень могущественным, храбрым и полным решимости. Он отличился во многих битвах, продемонстрировав величайшее бесстрашие во всех своих кампаниях. Что касается его королевства и его положения, то в этом он уступал королю Франции, однако превосходил его по богатству, отваге и воинской славе <…> Этот принц в самом деле по справедливости был известен рассудительностью и большим опытом, исключительной смелостью и неутолимым честолюбием. Поэтому когда мусульмане узнали о его прибытии, они исполнились ужаса и смятения3.
С Баха ад-Дином вполне соглашался и великий исламский историк Ибн аль-Асир аль-Джазари4.
Впрочем, одними славословиями отношение к Ричарду Львиное Сердце не ограничивалось. Каждая выдающаяся личность обречена подвергаться критике со стороны завистников, соперников и антагонистов, причем не обязательно принадлежащих к вражескому лагерю. Не стал исключением и владыка Анжуйской империи, породив за свою недолгую, но яркую жизнь достаточное количество недоброжелателей всех трех категорий: вокруг него кипела самая настоящая информационно-пропагандистская война.
Завистники и соперники старались принизить личность Ричарда по нескольким причинам. Во-первых, большинство европейских правителей смотрелись рядом с ним весьма блекло. Во-вторых, для оправдания вопиющего факта лишения свободы крестоносца, находившегося под защитой Церкви, необходимо было опорочить его имя. В-третьих, нашлись среди христианских государей и такие, кого Ричард в свое время невольно или намеренно унизил и оскорбил. Таким образом, хронисты Австрии, Германии, Италии и некоторых других стран вполне сознательно критиковали и самого Ричарда, и его свершения, желая потрафить своим властителям.
Что касается антагониста, то у главы Анжуйской империи имелся и таковой, причем вполне сопоставимый с ним по масштабу личности и размаху деятельности – Филипп II Август король Франции. Хотя его устремления были всемерно направлены на укрепление королевства, не все они оценивались современниками однозначно. Так, он покинул Святую землю до окончания Третьего крестового похода, чем навлек на себя всеобщую хулу – в отличие от Ричарда Львиное Сердце, стяжавшего за морями немалую славу.
Хотя король Франции вел себя разумно с практической точки зрения и во благо своей страны, общественное мнение руководствовалось другими, более романтическими соображениями. Вот и пришлось французским хронистам затирать пятна на репутации своего короля посредством очернения короля чужого. Поскольку религиозной целью похода было возвращение под власть христиан Иерусалима, а Ричард этого не добился – значит, предприятие закончилось провалом, заявляли они. При этом старательно обходили молчанием тот очевидный факт, что больше всех общему делу вредил именно их повелитель.
Они без устали распространяли по всему Западу клеветнические слухи о коварстве и низости Ричарда, нанявшего-де ассасинов для убийства Коррадо дельи Алерамичи маркиза Монферратского – деятельного союзника французов. Распускаемые клевретами короля Франции сплетни с удовольствием подхватывали германские и особенно австрийские хронисты, которые из мести за оскорбление, нанесенное в Акре их герцогу, рисовали Ричарда высокомерным, безжалостным и вероломным человеком.
* * *
Почти все обвинения в адрес Ричадра, как вскоре выяснилось, оказались ложью. Но вот относительно результатов крестового похода очевидной ясности не было. За Ричарда вступились его соратники, с негодованием отметавшие все упреки в адрес своего короля-воина, вдохновлявшего их на бой, всегда сражавшегося в первых рядах, храбреца среди храбрецов. Они были уверены, и не без оснований, что под его началом оказались причастными к великому историческому моменту, сравнимому со славнейшими битвами прошлого.
Гордую отповедь врагам Ричарда дал очевидец и непосредственный участник всех событий Третьего похода – хронист и поэт Амбруаз. Он заклеймил критиков экспедиции как людей несведущих, как досужих сторонних наблюдателей, из безопасного далека осуждавших воинов, прошедших трудный путь и перенесших жестокие страдания. Подвиги крестоносцев, как и подвиги их военачальника, достойны самой высокой оценки, считал хронист.
И одесную Господа воссядет
В небесном Иерусалиме граде,
Кто добрыми делами вместе с ним
Завоевал тот Иерусалим5.
Да, Ричарду не довелось вернуть Иерусалим христианам, чему во многом способствовало обструкционистское поведение французского контингента. Зато он завоевал Кипр, который в долгосрочной перспективе был стратегически значительно важнее Иерусалима, а также вернул под власть христиан прибрежные города Палестины. Взятие Иерусалима принесло бы ему куда больше славы, но успех был бы недолгим, ибо в скором времени город все равно пал бы в руки мусульман.
На защиту доброго имени главы Анжуйской империи встали не только боевые товарищи, но и ученые. Грамматик Жоффруа де Винсоф, нормандец по рождению, вставил в свой знаменитый трактат Poetria Nova литературную мистификацию, которая представляла собой якобы отрывок из некоей поэмы.
Англия! Королева королевств, пока жив король Ричард! Твоя слава далеко разносит могущественное имя. Тебе завещано владычество над миром, твое положение надежно под властью такого великого кормчего. Твой король – зеркало, отражаясь в котором ты наполняешься гордостью; звезда, блеском которой ты сияешь; столб, поддерживающий твою мощь; молнии, посылаемые тобой на врагов; слава, благодаря которой ты достигаешь горних вершин6.
Этот фрагмент ни в малейшей степени не претендовал на историчность, поскольку служил Винсофу лишь доходчивой иллюстрацией к одному из теоретических положений его поучительного трактата. Однако он, вне всякого сомнения, отражал реальную точку зрения автора.
Свидетельств подобного рода можно найти массу, причем не только в среде хронистов, сановников и ученых. То же самое чувствовал и простой народ, довольно быстро позабывший о перенесенных тяготах и поборах, наложенных на него Ричардом. В начале правления Эдуарда I Длинноногого – то есть в 70-е годы XIII века – англичане распевали по всей стране песню, в которой истоками «двойного цветения славы Англии» назывались победоносные войны Эдуарда I и доблесть Ричарда I7.
Спустя полвека после гибели Ричарда Львиное Сердце пыль суетных попыток отыскать изъяны в его характере и в его действиях наконец осела. Политический резонанс пропагандистских вбросов со временем потерял свою актуальность, осталась жить только героическая легенда. В памяти жителей Италии, Германии, Испании и Англии король-крестоносец Ричард Львиное Сердце остался непревзойденным полководцем, паладином, сражавшимся за возвращение Гроба Господня и за освобождение Святой земли.
Даже непримиримые прежде французы признали, что развязанная против короля Англии кампания не достигла своей цели и была всего лишь попыткой сторонников Филиппа II Августа оправдать неоправдываемое. Искренне преданный французской короне хронист Обри, монах-цистерцианец из аббатства Труа-Фонтен, через 40 лет после смерти Ричарда Львиное Сердце не смог не воздать ему должное и подробно перечислил все те деяния, которые действительно составили славу короля: умиротворение Мессины, завоевание Кипра, захват александрийского дромона в морской битве и помощь Яффе8.
* * *
Не все средневековые хронисты захлебывались от восторга, заводя речь о Ричарде Львиное Сердце. Однако большинство все-таки говорило о его величии как о чем-то само собой разумеющемся. Неизвестный автор «Жизни Эдуарда Второго», написанной в начале XIV века, укорял своего короля за неумелое правление, сравнивая его с правлением Ричарда, который «еще до истечения третьего года <…> рассеял везде и всюду лучи своей доблести»9.
Продолжали считать Ричарда Львиное Сердце великим государственным деятелем историки XVI века. Тюдоровский историограф Полидор Вергилий посвятил ему целый панегирик, восхваляя его как правителя и как человека, оправдывая практически во всем.
Он был столь же красив телом, сколь превосходил других величием духа, и потому по справедливости получил прозвище Львиное Сердце. Он был снисходителен к своим солдатам, щедр к своим друзьям и гостям, суров и непримирим к своим врагам, одержим жаждой сражений, избегал покоя, всегда был готов к опасностям и не ведал страха. Вот каковы были его достоинства. И его пороки, если их сопоставить с его достоинствами, его возрастом и его военными подвигами, окажутся либо абсолютно ничем, либо пустяками. Ибо среди простонародья отмечали его гордыню, которая обычно сопутствует величию духа, равно как и похоть, рожденная юными годами, и, наконец, алчность – позор, которого нелегко избежать командирам и полководцам, стремящимся получить деньги без разбора как от друзей, так и от врагов, ибо они испытывают в них великую нужду для ведения войн10.
Вслед за Вергилием и другой английский историк, живший на рубеже XVI и XVII веков, Джон Спид также считал короля человеком незаурядным и достойным восхищения: «Он отличался Sagacis ingeny, острым и проницательным умом <…> Он проявлял свою любовь и заботу об английском народе, а также непосредственно о Правосудии»11.
Можно возразить – кому как не английским историкам пристало возносить хвалу своему соплеменнику. Но, во-первых, именно Англия больше всех прочувствовала тяжесть десницы короля, обложившего ее немалым налогом. А во-вторых, именно на Туманном Альбионе раздались первые голоса против устоявшейся трактовки деяний и характера Ричарда, господствовавшей в течение несколько столетий. Ниспровергателем основ в XVII веке выступил, как водится, совсем не историк, а придворный поэт и драматург Сэмюел Дэниел. В «Собрании истории Англии» он писал, противореча своим предшественникам практически во всем и не утруждая себя отсылками к источникам:
Он взыскал с этого королевства и потратил больше, чем все его предшественники, начиная с Нормандца [Уильяма Завоевателя12. – В.У.]. И все же был достоин меньшего, чем кто-либо из них, поскольку здесь не жил, памятников благочестия или каких-либо других общественных сооружений после себя не оставил. Если когда-либо показывал любовь или проявлял заботу об этом народе, то лишь для того, чтобы получить с него все, что только возможно13.
Столь неожиданная смена тональности произошла не просто так, а явилась следствием придворных политических интриг. Как раз в то время король Джеймс I14 активно противился влиятельным силам, вынуждавшим его встать во главе общеевропейского протестантского «крестового похода» против Испании. Поскольку эскапады Сэмюела Дэниела сводились к обвинениям Ричарда в разграблении Англии с единственной целью растранжирить деньги в заграничных предприятиях, такой поворот вполне отвечал интересам короля Джеймса.
Это далеко не единственный случай, когда роль застрельщиков в кампании по «низвержению кумира» брали на себя люди, чьи профессиональные интересы лежали совсем не в области истории и чьи познания в этой науке были откровенно невелики. Так, к пересмотру общепринятой оценки Эдуарда Черного Принца активно призывала некая Луиза Крейтон – писательница и лидер британских суфражисток, посвятившая значительную часть своей жизни борьбе за права женщин15.
* * *
Поначалу радикальное переосмысление образа Ричарда Львиное Сердце, этого героического короля, не получило широкого признания у историков. Даже спустя полвека после инсинуаций Сэмюела Дэниела сэр Ричард Бейкер, автор «Хроники королей Англии», продолжал считать его образцовым правителем.
Его пороки по большей части были не более чем подозрениями: много говорилось о невоздержанности, но ничего не доказывалось. Однако его добродетели были очевидны, так как во всех своих поступках он проявлял себя доблестным (из-за чего и получил прозвище Coeur de Lion), мудрым, щедрым, милосердным, справедливым и более всего набожным16.
Тем не менее постепенное изменение отношения к инициированным Святым престолом, то есть католической церковью, крестовым походам, ставшее долговременным следствием протестантской Реформации, сделало ревизию правления Ричарда практически неизбежной. В 1675 году сэр Уинстон Черчилл, ярый роялист и отец знаменитого военачальника и интригана Джона 1-го герцога Малбороского17, мог себе позволить написать так:
Этого короля, хотя он и был первым, я назову худшим из всех Ричардов, которые у нас были. И несмотря на то, что потомки воздерживались от того, чтобы марать его память из-за пристрастия и любви, которые у нашего народа всегда порождали его принцы-воители (при этом он ничем не превосходил остальных, носивших это имя, поскольку все они были столь же доблестными, как и он сам), но век нынешний не имеет причин восхищаться им… Он был дурным сыном… он был дурным отцом… он был дурным братом… Наконец, поскольку он был дурным человеком, он был худшим королем, который вел себя скорее как прожектер, чем как принц18.
Эта характеристика, которую можно в принципе не принимать в расчет, ибо написана она в крайне эмоциональном стиле и к тому же далеким от науки человеком, оказала тем не менее огромное влияние на более поздних профессиональных историков. А почему бы и нет? До сих пор даже маститые ученые, в том числе советские и российские, не гнушаются подкреплять свои тезисы о короле Ричарде III цитатами из Уильяма Шекспира.
Поль де Рапен19, чьи работы высоко ценились по обе стороны Ла-Манша, ибо он был гугенотом, которому покровительствовали виги, великий шотландский историк и философ Дэвид Хьюм20, в России переиначенный по необъяснимым причинам в Юма, его современник англичанин Эдуард Гиббон21 и даже весьма уравновешенный исследователь архивов Уильям Стаббс22 – все они в той или иной степени соглашались с мнением сэра Уинстона. Ученые мужи, привыкшие писать взвешенные научные трактаты, мгновенно преображались, как только речь заходила о Ричарде Львиное Сердце. Они забывали о необходимости придерживаться принципа беспристрастности в оценках, их переполняли эмоции, как и Черчилла.
Постепенно всеобщее распространение получила точка зрения, что Ричард – туповатый вояка с отважным сердцем и весьма средними способностями к делу государственного управления, безжалостно ограбивший Англию ради своих военных авантюр. Поскольку шлюзы критики были открыты настежь, никто не собирался обуздывать полет своей фантазии. Началась ревизия вообще всего, что ранее говорилось о Ричарде. Майкл Марковски, получивший профессорскую степень в частном американском Сиракьюсском университете, дошел до того, что сообщил изумленным читателям: «Он был не героем, а человеком, который просто хотел все время сражаться в рукопашной»23.
* * *
Разгул скептицизма и ниспровергательства авторитетов правил бал достаточно долго и выдыхаться начал только к середине прошлого века. Первым прислушался к голосу разума Джон Осуолд Прествич, который отверг безапелляционно-критический подход к фигуре Ричарда Львиное Сердце и вновь решился признать за ним не только таланты военачальника, но и недюжинные способности правителя.
Прествича поддержал Джон Джиллингем, который постарался скрупулезно, последовательно, входя в мельчайшие детали обвинений, реабилитировать Ричарда I как политика, администратора и военачальника26. Джон Франс, почетный профессор Университета Суонси в Уэльсе, известный специалист по средневековью и крестовым походам, заявлял, что Ричард имел «проницательное понимание стратегии»27.
Впрочем, появление столь сильных адвокатов у Ричарда Львиное Сердце вовсе не означало, что тренд на негатив окончательно преодолен. Вот, почетный профессор истории Канзасского университета Джеймс Брандейдж продолжает утверждать, что Ричард был отвратительным королем. Правда, он нетвердо придерживается своих убеждений и пытается сгладить их безапелляционность, отходя от ясных и четких формулировок и напуская в свои рассуждения философского тумана.
Определенно, он был одним из худших правителей, которых когда-либо имела Англия. <…> Самая большая проблема интерпретации карьеры Ричарда, конечно, заключается в том, какие стандарты следует применять к его истории28.
В заключение нельзя не обратить внимание на то, что в последнее время – опять же в неакадемической среде – получает распространение неведомо откуда взявшаяся версия, что прозвище «Львиное Сердце» король получил вовсе не за храбрость и мужество в бою, а якобы за «звериную жестокость», с которой он 20 августа 1191 года вырезал пленных мусульман под Акрой. Вероятнее всего, эта версия родилась в воспаленном мозгу очередного горе-литератора, не удосужившегося заглянуть в источники. Но стоит помнить о том, что многие абсурдные обвинения в адрес исторических персонажей перекочевали в научные труды именно из книг, не заслуживавших, на первый взгляд, серьезного внимания.
Дабы сразу показать несостоятельность очередной выдумки, приведу лишь два свидетельства современников короля. Спутник Ричарда по крестовому походу Амбруаз называл своего повелителя этим прозвищем еще до того, как тот попал под Акру29. Знаменитый историк Гералд Валлийский писал в своей работе «Топография Ирландии», оконченной им в 1187 году, о Ричарде как о «льве, который более чем лев»30. До осады Акры, между прочим, оставалось еще 4 года.
Часть первая
Путь власти

Глава первая
Младший сын, или Зловещая династия
В XI–XII веках Европой железной рукой правили владыки гордые и жестокие. Робкие, нерешительные, разборчивые в средствах люди встречались среди них крайне редко и задерживались на вершине власти, как правило, ненадолго. Одной из самых могущественных династий, вершивших тогда судьбы народов, по праву считалась Ингельгерингская, с начала X века обосновавшаяся в Анжу. Согласно преданиям, ее основателем был знатный франкский вельможа Ингельгер виконт д’Орлеан и д’Анже, чей взлет пришелся на времена короля Шарля II Лысого31.
Мрачная, терзаемая постоянными внутренними усобицами, анжуйская династия Ингельгерингов пользовалась зловещей славой из-за необоримого властолюбия ее членов. Считалось, что ее история скрывала ужасные тайны, о которых люди говорили неохотно. Они шепотом, с опаской пересказывали друг другу легенду, согласно которой среди предков графов Анжуйских числилась сама Мелюзина – коварный дух воды, обольстительная фея неземной красоты.
Это предание получило широкое распространение, в него верили самые образованные люди того времени. В их число попал знаменитый историк, хронист, географ и богослов Гералд Валлийский, известный нам также под именами Геральда Камбрийского, Гералта Кимро или Жиро де Барри, окрасивший родословную семьи исключительно в черные тона.
Была также некая графиня Анжуйская – поразительной красоты, но неизвестного происхождения, на которой граф женился исключительно из-за ее прелестей. В церковь она приходила редко и либо демонстрировала там мало набожности, либо же совсем ее не выказывала, никогда не задерживалась в церкви до канона мессы, но всегда уходила сразу после чтения Евангелия. В конце концов, однако, это было с удивлением замечено – как графом, так и другими. И вот когда она явилась в церковь и собиралась уже в свой обычный час удалиться, то увидела, что по приказу графа ее удерживают четыре воина. Немедленно сбросив покров, за который они ее держали, и оставив там двух своих маленьких сыновей, которые находились под правой стороной ее покрывала, она схватила за руки двух других, стоявших слева от нее, и на глазах у всех вылетела через высокое окно церкви. И так эту женщину, более прекрасную лицом, чем верой, унесшую с собой двух своих детей, больше никогда там не видели <…> «Нет ничего удивительного в том, что сыновья, происходящие из такой семьи, не останавливаются перед угрозами своим родителям и братьям; ибо все они произошли от дьявола и к дьяволу уйдут». Когда корень во всех отношениях настолько испорчен, как же побеги из него могут быть цветущими или добродетельными?32
В поисках путей наращивания своего могущества Анжуйцы не пренебрегали ничем – ни династическими браками, ни сомнительными интригами, ни прямыми завоеваниями. С каждым десятилетием их владения расширялись, а богатства преумножались.
В самом начале XII века благодаря удачной женитьбе Фульк V Молодой граф Анжуйский стал также графом де Турень и дю Мэн. Ему наследовал сын Жоффруа V Красивый, носивший также прозвище Плантажене, давшее впоследствии имя английскому королевскому дому Плантагенетов33. Сейчас сложно сказать, за что именно он его получил. По одной версии, это произошло из-за его привычки украшать шлем веткой дрока (лат. planta genista). Согласно другой, граф особенно любил охотиться по весне, когда земли Анжу покрывались живым золотом цветущего дрока. Третья говорила, что набожный Жоффруа имел обыкновение стегать себя прутьями дрока в качестве епитимьи. Четвертая пыталась как-то связать прозвище с названием деревушки Ле-Женест (фр. Le Genest), расположенной недалеко от Лаваля в Мэне.
Каким бы ни было на самом деле происхождение прозвища Жоффруа, женился он, как и его отец, весьма выгодно – на Мод Императрице, единственной дочери и наследнице Генри I Боклерка короля Англии и герцога Нормандского. Хотя претензии на трон островного королевства анжуйцу в силу сложившихся обстоятельств сразу реализовать не удалось, неоспоримое право на корону Англии перешло его потомкам. Зато с Нормандией вопрос был решен кардинальным образом. Не откладывая дела в долгий ящик, Жоффруа присоединил титул герцога Нормандского к пышному букету своих титулов силой оружия.
* * *
Анри д’Анжу, старший сын Жоффруа Красивого, продолжил семейную традицию по собиранию земель. Он сумел заключить невероятно удачный брачный союз, заполучив в жены наследницу обширного герцогства Аквитанского. Никто не мог тогда предположить, что именно эта женитьба повлечет за собой разрушительные последствия, которые в течение последующих трехсот лет будут сотрясать всю Европу. Но до поры до времени она казалась блестящей всем без исключения.
Отец невесты, Гийом X герцог Аквитанский происходил из древнего франкского рода Рамнульфидов, с IX века правившего землями, расположенными на юго-западе нынешней Франции и омываемыми волнами Бискайского залива. Он был сыном знаменитого крестоносца Гийома IX Трубадура и Филиппы, дочери графа Тулузского. В 1121 году Гийом X Аквитанский женился на Аэнор де Шательро, у них родились две дочери и сын, который умер в возрасте 4 лет.
Старшая девочка получила необычное имя Алиенора, а вовсе не Элеонора, как привычно называют ее англичане. Его принято расшифровывать как Алиа-Энора (лат. Alia Aenor), что означает «другая Энора». Она стала наследницей всех титулов и владений отца. А владения эти были поистине обширными. Герцоги Аквитанские правили в Пуату и Сентонже, были сеньорами графов д’Ангулем, де Ла-Марш, де Перигор и виконтов де Лимож. С середины XI века под их рукой находился богатый город Бордо, а также несколько графств и сеньорий, лежавших между устьем Гаронны и северными отрогами Пиренеев. Герцоги также пользовались номинальным сюзеренитетом над пограничными с Францией областями Берри и Овернь.
В 1237 году Гийом X отправился поклониться святыням Сантьяго-де-Компостела. На время своего отсутствия он передал опекунство над дочерью Луи VI Толстому королю Франции и поставил условием, чтобы тот нашел ей достойного мужа в случае, если он не вернется из паломничества. Герцог Аквитанский как в воду глядел: 9 апреля он скончался, едва достигнув цели своего путешествия.
Король Франции здраво рассудил, что самым достойным мужем для столь завидной невесты вполне может стать его собственный сын и наследник Луи VII Младший. Придя к такому выводу, опекун мешкать не стал, и уже 25 июля 1137 года в Бордо состоялась пышная свадьба. Вся знать Гаскони, Пуату и Сентонжа присутствовала на церемонии венчания, которую проводил Жоффруа дю Лору архиепископ Бордоский. По праву жены Луи стал герцогом Аквитанским, а всего семь дней спустя – еще и королем Франции, так как его отец Луи Толстый скончался от дизентерии.
Красота и ум жены-аквитанки совершенно покорили Луи, он влюбился в нее без памяти и позволял супруге делать все, что ей только могло взбрести в голову. А фантазий у молодой королевы хватало, ибо воспитана она была при шумном и веселом аквитанском дворе, где высоко чтились традиции трубадуров34. Алиенора отличалась живым характером, свободомыслием и известной вольностью поведения, что весьма часто ставилось ей в укор. О ее романах ходило множество сплетен, правдивость которых, впрочем, ни в одном случае не была доказана.
К досаде Луи, семейная жизнь у молодых не задалась: ответных чувств в своей жене он пробудить не смог. Да и чем мог завоевать расположение столь прекрасной во всех отношениях дамы человек крайне набожный, аскетичный и весьма воздержанный в интимных отношениях? А Луи VII был именно таким, о чем красноречиво свидетельствует рассказ Гералда Валлийского.
Как-то король тяжело заболел. Собравшиеся у его ложа лекари единогласно пришли к выводу, что недуг вызван долгим половым воздержанием. Поскольку королева в этот момент находилась очень далеко, то консилиум в присутствии епископа, аббатов, приоров и многих людей, известных своей благочестивостью, предложил лечение, сообразное с причиной болезни.
Привести все же какую-либо девушку, чтобы та явилась лекарством, и вернуть его к жизни. Когда епископ и все присутствующие предложили это королю, взяв на себя всю ответственность, гарантировав отпущение грехов и заступничество перед Господом, благой сей муж ответствовал: «Если нет другого лекарства от моей болезни, пусть свершится надо мной Господня воля, ибо лучше умереть непорочным, чем жить прелюбодеем». И таким образом, отдав себя на милость Господа, который не оставляет уповающих на Него, он вскоре выздоровел и божественным даром как лекарством злую болезнь превозмог35.
Разительная несхожесть темпераментов мужа и жены не позволяла им жить в мире и в ладу. Поговаривали, что как-то в порыве гнева Алиенора произнесла убийственную фразу: «Я вышла замуж за монаха, а не за короля»36. Эта резкая характеристика дает понять, сколь велико разочарование семейной жизнью было и с ее стороны.
* * *
В 1145 году пределов Европы достигли шокирующие новости из Святой земли. Под натиском сельджуков, которых вел деятельный и решительный Имад ад-Дин Занги атабек Мосула и Алеппо, пала Эдесса. Это известие повергло в ужас весь христианский мир и вызвало резкий всплеск антимусульманских настроений. Папа Евгений III и пламенный проповедник Бернар из Фонтена аббат Клервоский37 призывали к крестовому походу38.
При таком накале всеобщего энтузиазма крайне набожный, хотя совершенно не воинственный, Луи VII не мог оставаться в стороне. Волей-неволей ему пришлось примкнуть ко Второму крестовому походу. Вместе с ним в Палестину отправилась и Алиенора, что стало последним шагом, который привел неудачный брак к краху.
Столь необычное решение королевы Франции послужило пищей для очередной порции пикантных слухов, не очень-то для нее комплиментарных. Молва приписала Алиеноре интрижку с ее собственным дядей Раймундом де Пуатье князем Антиохии. Скорее всего, за этими сплетнями ровным счетом ничего не стояло, поскольку даже ревнивый супруг не выдвигал ни тогда, ни впоследствии никаких обвинений в адрес жены. Однако сложно отрицать тот факт, что между Алиенорой и Раймундом установились весьма тесные отношения, пусть и без оттенка эротизма. Хитроумный князь Антиохии пытался через королеву Франции перенацелить усилия крестоносцев к собственному благу и завоевать с их помощью соседнее Алеппо, находившееся под властью сельджукской династии Зангидов.
Планы Раймунда потерпели неудачу, да и весь Второй крестовый поход окончился провалом. В середине ноября 1149 года Луи VII с женой вернулись в Париж. Король со всей наглядностью продемонстрировал свою ничтожность как на военном, так и на дипломатическом поприще. Это окончательно отвратило от него Алиенору, и перспектива развода встала перед супругами в полный рост.
Несовместимость характеров, равно как и сплетни, продолжавшие преследовать королеву, никоим образом не могли послужить основанием для расторжения семейных уз. Церковь не признавала подобных несерьезных аргументов – даже после адюльтера супруги оставались женатыми перед лицом Господа. Политические и экономические интересы самого Луи VII также настоятельно требовали сохранения брака: будучи женатым на герцогине Аквитанской, король Франции, безусловно, являлся самым влиятельным правителем Европы.
Похожим правилам, несомненно, должны подчиняться и переводы прозвищ. К примеру, John of Gaunt – Джон Гонтский, но Henry Bolingbroke – Генри Болингброк. Помимо прочего, непонятно почему у нас принято смягчать в английских именах букву «л», которая в английском языке всегда твердая – Мальборо, Кромвель, Вудвиль. На самом деле они Малборо, Кромвелл и Вудвилл.