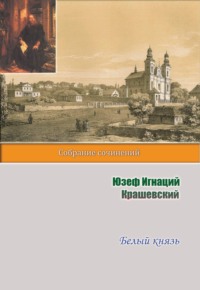Kitobni o'qish: «Белый князь»
© Бобров А.С. 2022

Том I
I
Было это девятнадцатого ноября лета Господня 1370.
Несмотря на морозный ветер, который дул с севера и объявлял грядущую зиму, весь Краков высыпал на рынок и улицы. Между костёлами францисканцев, Св. Троицы и Девы Марии, и кафедральным собором на Вавеле дороги, пригорки, крыши и окна были так набиты, точно их выстроили из людских голов. И мало что можно было различить, кроме различно покрытых и открытых голов, кроме лиц, на которых рисовалось одно выражение боли и какой-то тревоги.
Ни на одном из этих многочисленных лиц не было видно даже мимолётного лучика радости, ни легкомысленной усмешки. Всё это было тихо окаменевшим, оцепенелым, а на многих покрасневших веках можно было заметить следы слез.
Над головами этой толпы с неровным порывом ветра, то громче, то тише, прерывисто, стеняюще отзывались колокола костелов.
В этот день отдавали последнюю дань памяти великому королю, по которому плакала вся страна. Не по одному еще, может быть, столько слез не пролилось. С ним кровь Пястов сходила с трона, который должен был достаться чужаку; с Казимиром хоронили всю эту шеренгу железных мужей, что охраняли родину грудью, а сердцем любили, Пястов, кои были этому народу отцами и детьми.
Последний, словно хотел оставить по себе вечную память, вырос над всеми, не рыцарством, как другие, а великой любовью ко всей этой земле, которую обьединил, расширил и благословил миром.
Так говорили потихоньку старые люди, слёзными глазами смотрящие вдаль и невидящие ничего… чувствовали, что с царствованием этого короля счастье и покой кончились. Чужой пришелец принимал корону как из милости, не хотел знать этой страны, воздух которой для него, как говорил, был нездоров и невыносим. В группах потихоньку шептались, что Хассо, староста герцога Бранденбурга, уже захватил сантоцкий замок, что Литва осаждала владимирский недостроенный замок, что мазуры заняли крепости, которые принадлежали королю. Это было только начало… когда король, едва сомкнул веки; что же будет дальше?
Ни одно новое царствование так грустно о себе не объявляло, ему не предшествовали такие предчувствия.
Над шёпотом людей и грустными пророчествами жалобным стоном звонили колокола. Вдалеке медленно двигался и приближался погребальный кортеж.
В толпе говорили и о том, что эту процессию, чтобы почтить покойного, устроил не новый король Людвик, не мать его Елизавета, сестра Казимира, а горюющие по своему пану домашние его, придворные, близкие его и любимые. Медленно потянулись шеренги духовенства из всех костёлов и монастырей, предшествуемые хоругвиями патронов и траурными колесницами.
Ксендзы шли с одной рукой на груди и свечой в другой, склонив головы, такие же грустные, как люд, ибо всеобщая скорбь пронимала и их, оторванных от света.
Тут же начали показываться траурные повозки, целиком обитые киром – кони в чёрном, в чёрном люди – с высокими балдахинами, с серебряными слезами на шторах.
Их было четыре одинаковых, точно каждое сословие хотело ими показать свою скорбь, и все становились с ним у гроба.
За этими повозками выступал рыцарский отряд, великолепный, позолоченный отряд рыцарей, на конях, до земли покрытых пурпуром, чтобы показать, что сын бедного Локетка, взяв в лохмотьях и из дерева отцовское царство, отдавал его в пурпуре и стенах. Знали об этом все старцы, которые помнили былые времена.
Над головами этих сорока рыцарей развевались хоругви; впереди – пурпурная королевская, с белым орлом; дальше – одиннадцать флажков всех земель, которые Казимир объединил и сильной рукой сжал в великое целое.
– Но не стало длани, – шептали, – не стало… и вот…
Уже крошились и отпадали части его государства. Какое ждало его будущее?
Ропот глухо прошёл по толпам, они задрожали, задвигались, подняли головы, глаза заблестели живей.
За кавалькадой рыцарей на любимом коне короля, под золотом, покрытым вшитым жемчугом, ехал тот незнакомый муж, что представлял умершего. Угадывали его имя, а никто не мог поведать, кто это был.
А у тех, кто знал короля, билось сердце и текли слезы, потому что им казалось, что видели его самого, вставшего из могилы в последний раз и пришедшего проститься со своими детьми.
Казалось, это был он, имел его фигуру, рост, чёрные кудри волос, а шлем с опущенным забралом, из-за которого только глаза проглядывали, позволял видеть его лицо там, где железная решётка не пропускала взгляда.
Самые дорогие одежды и камни из сокровищницы покрывали эту фигуру короля, парча, цепочки, бархат, доспехи, инкрустированные дорогими камнями, пояс, сверкающий бриллиантами.
Но – никто на эту роскошь не смотрел – умершего короля видели в этом загробном призраке, и вдруг брызнули слезы и послышался стон.
Последний Пяст… последний в короне ехал в могилу, которая должна была закрыться за ним навеки.
И пошли за ним глаза и сердца… И тут же шестьсот мужчин парами начали траурное шествие за паном. На всех было чёрное одеяние и каждый из них обеими руками держал огромную свечу, горящую, несмотря на ветер, неспокойным пламенем, и льющую из себя ручеек воска, горячий, как слёзы.
Шли и шли и конца им долго не было… до тех пор, пока над головами последних не показалось как бы высоко несомое ложе, катафалк, который поднимали королевские придворные, до земли покрытый саваном, обшитым золотом и серебром, на котором по кругу спускались полоски бархатной ткани и пурпурного шёлка.
Около катафалка тиснулась толпа в трауре, с непокрытыми головами, которая тянула жалобную песнь, дивную, не церковную, не привычную ни звуком, ни словами, пронимающую, потому что тот, кто её пел, рыдал, закрывал руками глаза, вырывали волосы на голове и возносил к небесам руки.
А их искренняя, страшная скорбь до костей волновала тех, кто был свидетелем, и заразительный плач вырывался от неё в толпах.
О песне говорили, что её пел какой-то неуч, с большим сердцем, с неизмеримой болью, а все за ним повторяли слова, на которые мудрейшие пожимали плечами, потому что были простые, словно взятые из уст народа, а шли в грудь, как меч, острием свей боли.
Эта песнь, вдохновенная и бесформенная, заглушала псалмы, заглушала колокола, и вся толпа повторяла строфу:
Родителя эта земля потеряла,
Потеряла родителя…
Трауром вся покрылась…
Герольд, едущий перед катафалком, чтобы сделать ему более широкую дорогу и бросающий направо и налево горстями пражские гроши, не мог ему дать легкий проход; чернь едва наклонялась за падающими на землю деньгами, другие стояли, плача, и давали толкать себя, не ведая, что на них наступали. Горе было настоящее, общее, великое.
Только королевская стража с большими позолоченными алебардами, распихивающая ими толпы и кричащая: «Король, король!» – больше силой, чем устрашением могла большую толпу разбить на две половины.
Глаза всех обратились теперь на это живое будущее.
Королевская свита была великолепной и блистательной, а сам он также, если бы не воспоминание о Казимире, мог привлечь к себе взгляд.
Его окружало духовенство; старый, наполовину слепой Богория, который, должно быть, выплакал от горя по любимому Казимиру остатки глаз, Флориан Краковский, Пётр Люблинский, епископы.
Он шёл в доспехах, с высоко поднятой головой, свысока гордым взглядом меряя толпы, без скорби и тревоги на лице, только какой-то уставший и равнодушный, часто прикладывая белый платок к белому и красивому лицу.
На его шлеме светилась корона, инкрустированная дорогими каменьями, королевский плащ свисал с плеч. Одной рукой он опирался на рукоять меча.
Ни народ, которым он должен был править, к нему, ни он к этим толпам не проявлял того желания и надежды на взаимную любовь, которую могла возвестить связь отца с детьми. Король смотрел равнодушно, на короля поглядывали с опаской.
Он, конечно, знал, что умершего короля холопов не заменит.
Он ослеплял только роскошью двора и хотел доказать свою силу. Двор Казимира в последнее время был блистательным, но никогда не мог сравнится с двором Людвика. А как умерший пан был милостив, так и те, что его окружали, везде и всегда по-братски и сердечно себя проявляли. Людвиков двор имел облик панский, гордый, презрительно смотрящий, как и он, рыцарский, но грозный, мрачный, пугающий.
Достаточно было взглянуть на этих венгерских магнатов, обшитых золотом, чтобы разогнать толпы.
Похоронного траура ни Людвик, ни они не надели даже на этот день и минуту – едва искривлёнными лицами не издевались, говоря хмурым и плачущим людям:
– Теперь мы ваши паны!
Эта угроза владычества сжимала каждому, кто на них смотрел, кипящую грудь. Другие представители королевской свиты также указывали друг на друга, шепча потихоньку.
За королем шёл Владислав Опольский, который и при смерти Казимира там был, и от Людвика не отступал. Тот также пански выглядел и в нём текла кровь Пястов, но на старых сердечных Пястов он совсем не был похож.
В колыбеле или на рассвете немцы взяли его на учёбу и переделали в своего, так что говорили, что свой язык он с трудом использовал и вовсе его не любил. Разум, смекалка и мужество смотрели из его глаз, только любви в них не было.
Он шёл за королем, ни на что не глядя и не видя; только на него смотрел, как бы ждал слова, приказа, знака.
Иногда Людвик тоже на него поглядывал, точно спрашивал: «Когда это кончится?»
С другой стороны за королём следовал красивый мужчина, с щуплой фигурой, женским милым лицом, чёрными горячими глазами, с живыми и беспокойными движениями. Был это князь Кажко Шчецынский, любимец покойного, воспитанник и внучок.
Этот шёл рассеянно, бросая взгляды то туда, то сюда, а на него с интересом глядели многие. Он был своим – а теперь и он на милости чужаков. Тихо шептали, что королевское завещание, в котором он многих, и этого князя, одарил, Людвик, должно быть, порвал, и не думал исполнить воли умершего.
Дальше шли женщины, все покрытые чёрными накидками. Старая королева, венгерская вдова, дочка Локетка, – впереди. Удивительно было глядеть на неё.
Люди знали и считали её годы; сын, сороколетний муж, тоже ей предшествовал, а королева, если не казалась молодой, по крайней мере хотела ею быть еще.
Действительно, на её лице кое-где вырисовывалось немного морщинок, но лицо было румяное, свежее, белое еще, глаза блестящие, а из-под накидки виднеющиеся волосы не показывали седины. Всё же она хотела в этот день иметь грустное лицо, но не могла. Бросала взгляды туда и сюда, давала знаки, а шла, забываясь, так живо, что каждые несколько шагов, должна была останавливаться, чтобы те, кто ей предшествовал, имели время отдалиться.
Рядом с ней, с застывшим мраморным лицом, с опущенными глазами, медленно шла Казимирова вдова, Ядвига, вся в черном, задумчивая, точно была мыслями не тут уже, но где-то в другом месте.
Две их девочки, панские дочки, плакали и платками закрывали белые личики; бедные сироты всё чаще спотыкались на камнях и шатались…
Вокруг толпилась толпа венгров, которая разговаривала вполголоса на незнакомом языке, показывала пальцами на улицы и дома и не делала себе траура из того, что для них было весельем и развлечением.
А где толпа на них нажимала, они сразу поднимали на неё кулак, хмурили брови и хватались за мечи. Они чувствовали там себя панами.
Перед тремя костёлами процессия, катафалк и толпа останавливались; наконец все устремились в вавельский кафедральный собор. Дорогу на Вавель, замковые дворы, башни, стены – всё уже заполонил народ.
В костёл едва впускали самых достойных. Рыцарям приходилось сдерживать напор и каждую минуту доносились приглушенные крики.
Епископ Флориан вышел к большому алтарю, послышалось пение, и вместе с ним ко всем, сколько было алтарей в святыне, приблизись ожидающие капелланы, принося бескровную жертву за душу пану.
Посередине собора на двух серебряных мисках лежали кучки грошей, из которых каждый брал, сколько хотел, и складывал при алтаре за панскую душу. А так как в давке не каждый мог добраться до алтаря, выручало рыцарство, которое несло траурную службу.
Шли также те, что окружали катафалк, слуги и урядники покойного короля, неся каждый в костёл дань за его душу, а была она так обильна и дорога, как велика была скорбь по покойному Пясту.
Шёл подскарбий умершего, Святослав, с серебряными сосудами и полотенцами, которые король использовал на пиршествах, и преподнёс их костёлу на память. Хотя на Вавеле уже была одна ценнейшая памятка, перед смертью подаренная самим Казимиром, – частица того древа, на котором умирал Христос за людские грехи, в серо-золотом кресте, украшенном жемчугом и дорогими камнями.
За подскарбием подошёл к алтарю стольник Предбор и подстолый Януш, неся четыре серебряные миски; чашник Петрко и подчаший Жегота – кубки и потиры; маршалек двора принёс драгоценный королевский браслет.
Богослужение подходило к концу, когда народ начали отталкивать от дверей, чтобы обряд закончился согласно традиции и рыцарскому обычаю. Въезжал на коне тот незнакомец, который представлял особу короля, с опущенным забралом, за ним подконюший привёл послушного коня, а тут же один за другим начали, стуча по каменному полу копытами, въезжать хорунжии.
Это был самый болезненный момент, последний, когда у подножия королевского катафалка начали разбивать и ломать хоругви сначала этого королевства, потом всех земель.
Приглушённый плач отозвался стоном и рёвом; треск ломаемых древков, ржание испуганных коней, крики толпы, песнь ксендзев – все это, вместе смешанное в один голос, дикий и страшный, пронимало самых крепких людей дрожью тревоги и каким-то безумием. Некоторые забывали, что были в костёле, сильно рыдая, поднимая кверху руки. Над ропотом и рыданием возносились сетования.
Король Людвик не мог уже дольше слушать выражения этой скорби – вместе с семьёй и двором он вышел из костёла, возвращаясь в замок.
На венграх и на них видны были обида и гнев от того, что такой скорбью хоронили прошлое, точно уже никакого будущего не было. И действительно, новый король мог подумать, что при величайшем усилии о своих двух королевствах, никогда этого королевства не получит так, как умерший, не заменит его…
Со стоном и плачем медленно выливался люд и все участники погребения на двор. Они стояли там у костёльных дверей, под стенами, на дороге, точно не в состоянии бросить этот гроб и расстаться с ним.
Отовсюду вокруг были слышны только похвалы умершему и суровая скорбь по нему. Старшие панские слуги рассыпались так, чувствуя себя ненужными, потому что король и старая Елизавета уже окружались новыми. Мало кто из Казимировских слуг должен был остаться при них.
Те, кто заранее предвидели смерть Казимира, сбежали в Буду, старой пани и сыну её принося лесть и покорно предлагая службу.
Что было лучшего, стояло на обочине, не думая о себе, более ловкие заранее занимали места. Из бывших любимцев и приятелей короля мало кто имел доступ в замок.
На скорбный хлеб самые достойные шли к королю и королеве, другие – в город, в котором в этот день были полны не только гостиницы, но и всевозможные углы. Ибо прибыли и великополяне в достаточном количестве, в надежде, что нового короля, словно на другую коронацию, заберут с собой в Гнезно, и куявы, серадзяне и русины, и немного мазуров.
Через час после окончания звона траурных колоколов в замке уже можно было увидеть только преимущественно венгров, снующих по дворам, на улицах разговаривал народ, рассказывая и вспоминая, что видел в этот день; в деревянной усадьбе пана Добеслава из Курозвек, воеводы Краковского, была большая толпа гостей.
Там, говорили друг другу люди, панская милость рассветала новой зарёй, а на такой свет люди всегда стремятся.
Это были старшие местные землевладельцы Рожицы, от которых Добеслав вёл свой род, и люди немалых имен; все-таки ни с Топорами и Старжами, ни с Леливами и Сренивятами идти наравне не могли, потому, может, живо занимались своими делами, чтобы взбираться в гору.
Но покойный король как милостивым паном был для всех, так слишком предприимчивых льстецов около себя не любил, не доверял им. Особенной его милостью Рожицы также не хвалились, хотя за службу их награждал, и старшего Добеслава поднял на первое воеводство.
Рыцарские были люди, особенно старый, который любил не только военное дело, рыцарские забавы, охоту и турниры, но и сам тот гордый, крикливый, панский, прекрасный обычай, который во время мира заменяет военный шум.
Пану воеводе было около шестидесяти лет, хоть их на нём видно не было, потому что подвижная жизнь, более долгая или более короткая, не даёт человеку одряхлеть и постареть.
Поэтому он держался молодо, невзирая на то, что имел двух взрослых сыновей; выступал нарядно и блестяще, а в доме – гостеприимно и щедро, и хотя был могущественный, всегда хотел стоять выше своего могущества.
Его также окружал панский двор, его конюшни и возницы славились, он носил самые дорогие доспехи, одевался в бархат и любил порисоваться перед людьми.
Сын Кжеслав был полной копией отца, и хотя красивое лицо было моложе, обычаем, речью, голосом точь-в-точь был на него похож. Оба понимали друг друга и угадывали очень хорошо.
Второй сын, Завиша, хотя равно горячей крови и по характеру им подобный, лучше бы подошёл к коню и мечу, чем к алтарю и сутане, по отцовской воле должен был идти в духовное сословие, призвания к нему не имея. Отец не спрашивал об этом, ему был нужен ксендз в семье, потому что заранее назначил ему в костёле высокий сан. Поэтому он отправил Завишу в Италию, велел ему учиться и дал его постричь; а когда вернулся на родину, быстро сумел его втиснуть на двор и в капитул.
Быстрого ума, ловкий, хитрый молодой священник счастливо прокладывал себе дорогу, хоть жил не как священник.
Его привлекало то же самое, что отца и брата: панская свобода, пиры, кони, охота, песни, весёлое общество и ухаживание за женщинами.
Немного обуздывая себя, чтобы не дать себе испортиться, когда вырывался в деревню, отпуская поводья, Завиша на людские языки вовсе не обращал внимания.
С ним было много людей, потому что знаний ему было хоть отбавляй, хорошо писал, умел привлекать людей и, когда было нужно, подстраивался под них.
Сразу после смерти Казимира, когда ксендз Сухивилк с епископом Флорианом ехали в Буду, присоединился к ним Завиша, чтобы пораньше попасть на двор.
Старую королеву Елизавету он знал раньше и льстил себе, что был у неё в милости. Уже немолодая пани Безрука любила весело развлекаться и окружать себя молодежью обоих полов.
Не было у неё дня без музыки, песен, плясок и забавных бесед. Рекомендовалась к ней молодежь, как могла, а она потом ею заправляла, когда та заслуживала милости.
Но в то же время немолодая пани начинала быть набожной, и с утра благодарила Бога, а вечером людей.
Молодой ксендз, который и молитвы мог с ней читать, и умные беседы с остроумием вёл, и льстил старушке, превознося её до небес, и даже прославляя красоту, добился расположения королевы.
Она помнила о том, и когда он приехал в Буду с новостью о смерти её брата, ему легко было покорным словечком добиться от старушки канцелярии.
Тогда уже было понятно, что Людвик, сам относящийся к Польше враждебно, не желая в ней жить и не в состоянии, отдаст бразды правления матери. Из канцелярии королевы была простая дорога к митре.
Завиша уцепился за платье Елизаветы и стал её слугой. Отец и брат аплодировали. Через Завишу они попали к старой матери, а через неё к молодому королю.
И теперь уже Рожицы глядели на других свысока, зная, что имели перед собой будущее.
II
Когда люди разглядели, что Рожицам везёт, хоть около воеводы никогда пусто не было, толпой к ним посыпались. Это был хороший знак. Добеслав потирал руки.
В этот день точно знали, что Людвик в Польше места не нагреет, а кому-нибудь его сдаст, лишь бы бремя с плеч сбросить.
Говорили, что мать настаивала, что останется в Кракове. Там ей было свободней, потому что сама могла царствовать, когда в Буде другая Елизавета, молодая, стояла рядом. В Польше она вспоминала молодые годы, отца, мать, брата… да и приятелей у старушки хватало, которые шептали ей, чтобы осчастливила Польшу и сама ей правила, когда она именно к ней первой переходила, чем если бы её передали сыну. Привлекал Елизавету и красивый Краковский замок, заново великолепно отстроенный Казимиром и украшенный.
Таким образом, Рожицы надеялись со своей госпожой в нём всем заправлять.
Вечером дом воеводы был полон, хотя места в нём и хватило для многолюдного собрания. Как значительнейшая часть тогдашних домов, дом Добеслава, построенный из дерева, обширный, снаружи не выдавал, чем был.
Большие комнаты также ничем не отличались, когда воевода в них не жил. Предметы интерьера в них так же были просты, как у самого мелкого из землевладельцев.
Но всё это перевоплощалось, когда только воевода заезжал в свой дом, а его двери собирался открыть людям.
Голые стены были завешаны великолепными драппировками, лавки были покрыты подушками и тканями, на полах были ковры, столы были покрыты сшитыми скатертями, полки наполняли серебром и дорогой посудой, сарай, точно по мановению волшебной палочки, перевоплощался в дворец.
Пустые каморки и остывшие кухни, когда прибывал пан, заполнялись припасами, и с утра до ночи продолжался в охотку пир.
Сын Кжеслав хозяйнчал там вместе с отцом, а так оба понимали друг друга, что как один человек, без слова и уговора, делали согласно по своему желанию.
Завиша жил отдельно, как клирик, а теперь больше просиживал при дворе старой королевы, чем у отца. Всё-таки и одного дня не проходило, чтобы он там не появлялся со своим красивым, весёлым лицом и новости какой-нибудь не приносил.
В большой комнате под вечер было многолюдно и собралось немало достойных людей.
Не считая более маленьких людей, кроме хозяина-воеводы и его двоих сыновей, у маленького стола по-отдельности сидели Пжедислав из Голухова, воевода Калишский, который ещё при Казимире в Великой Польше занимал должность губернатора и до сих пор её сохранил, Яшко Кмита, Пелко Замбра, сандомирский судья, Вилчек из Надорова Краковский и маленького роста ксендз, Ян Радлица, который в то время уже слывился как учёный лекарь.
Те, кто знали окружение воеводы, ясно могли видеть, что в том кружке почти один Пжедислав и Голухова больше принадлежал к старому двору, чем к новому.
Оба судьи уже, как говорили, купленные, должны были выступить против завещания покойного короля, ксендз Ян тоже со своей медициной ходил около старой королевы, хотя она, казалось, не много в ней нуждалась, поддерживая свежесть лица и здоровье какой-то чудесной водой, в которой каждый день мылась.
Из-за пана Пжедислава из Голухова, которому, как слуге Казимира, не вполне доверяли, сдержено вели разговор о текущих делах, глазами друг другу давая знаки.
Немного подальше от стола стоял мужчина, который выглядел рыцарски и красиво, в одеждах из лучших тканей, в наполовину позолоченных доспехах.
Был это Оттон из Пилцы.
Благодаря красоте, гладкости обычаев и умению понравиться он также был уже в хороших отношениях на дворе старой королевы и принадлежал к тем, на которых указывали как будущих любимцев.
– Ну что! – произнес не спеша, меряя глазами окружающих, великорядца Познаньский. – Король сам нам обещал быть в Гнезне… Он обязательно нам нужен там. Наши великополяне завидуют, что вы у нас из Гнезна корону забрали и старой столицей пренебрегаете. Вот бы нам его хоть у могилы Мешка увидеть.
Добеслав усмехнулся.
– Зачем короля утруждать? – отпаривал он. – Разве мы и вы не представляем одно целое? Всё-таки ваш Богория для нас всех его короновал.
Пжедислав вздохнул.
– А ну! – сказал он. – Великополянами не пренебрегайте. – Эта корона, которую вы себе в Краков взяли, у нас была выкована. Она у вас после Храброго и после нашего Пшемки…
– Старая история! – вставил ксендз Завиша со смехом. – Будете помнить о том, что покойный король, память которого вы почетаете, хотел единую Польшу…
– Мы также её хотим, – ответил Пжедислав, – но в одном человеке две руки и два глаза, так и у нас..
– Что ж это было бы? – прервал Добеслав живо. – Новый король ради разных земель, пожалуй, в каждой отдельно должен был бы короноваться, и как было на погребении одиннадцать хоругвей, так его одиннадцать раз помазать должны были бы?
Вокруг послышался смех, а Пжедислав немного нахмурился.
– Все-таки, – сказал он, – куявам отдельно его короновать нет необходимости, Серадзь о том не вспомнит, но Великопольша – гнездо первое… пястовское.
– С Пястами покончено! – пробормотал судья Краковский.
Где-то вдали послышался вздох.
Оттон из Пилцы молча слушал, а хозяин добавил, смягчая великорядцу Великопольского, который вставал из-за стола, словно думал уходить:
– Король к вам едет, не беспокойтесь, будет он у вас.
Не желая продолжать щепетильный разговор, Пжедислав взял колпак и поклонился сначала хозяину, потом по кругу, и направился к дверям, любезно провожаемый Рожицами.
После его ухода какое-то время продолжалась тишина, все переглядывались, как бы хотели убедиться, что теперь друг с другом свободно могут поговорить.
– Королю Людвику будет что делать в новом королевстве, – вздохнул Добеслав, – наследство взял прекрасное и богатое, но забот с ним уйма… Мазуры оторвались прочь, Литве будет тяжело защититься от Руси, бранденбуржцы и саксонцы уже нас кусают.
Он покачал головой.
– Добавьте и то, – очень тихо сказал судья Краковский, – что, хоть завещание и старые пакты обеспечивают Людвику трон, дьявол не спит… Пястов и Пястовичей достаточно, и таких, что только в них кровь настоящих королей видят, также немало.
– Напрасная вещь и напрасный это страх, – ответил живо воевода. – Все-таки ни Владислав Опольский, ни Казко Шчецинский, ни Мазовецкие не покушаются…
– Ни за кого не ручаюсь, – сказал судья, покачивая головой. – Один бы, может, никто не отважился, но авантюристы подговаривают. Смешно об этом вспоминать, а я бы и за Влодка Гневковского, который, по-видимому, где-то стал монахом и с монахами поёт в хоре, не ручался бы.
Другие в самом деле начали смеяться.
– Пожалуй, с ума бы сошёл тот, кто его против нашего пана хотел бы вести, – сказал Оттон с Пилцы. – В Гневкове справиться не мог, и бросил это княжество, которое в первый попавшийся мешок можно спрятать, а что ему о короне думать?
– Да, да! – сказал насмешливо судья. – Маленькое княжество бросить не жаль, потому что для чего оно? Велика забота! Но за огромное королевство стоит шею подставлять…
– Для этого, – воскликнул Оттон из Пилцы, – нужно иметь огромное сердце и сильную правую руку, ну, а как раз их ваш монах не имел никогда.
Снова ненадолго замолчали, а потом те, что сидели у стола, наклонив головы друг к другу, о чём-то тихо начали шептаться.
К воеводе сходилось столько разных людей, которые не все с ним держались и в которых он не был уверен, что доверчивые признания, должно быть, передавались из уха в ухо.
Больше, чем когда-либо, после смерти короля Казимира, вырисовывались два противоположных лагеря. Одни в новом правлении искали личную выгоду, были рады ему и старались только завязать как можно лучшие отношения со двором, другие, ясней видящие, усматривали уже будущий упадок родины, неразбериху и беспорядок, каким её могло подвергнуть безразличие Людвика.
Венгерский и далмацкий король не скрывал того пренебрежения к наследству дяди, а скорее матери, брал его неохотно, хотел из него вытянуть как можно больше выгоды для себя, но его сердце и ум были где-то в другом месте.
Он чувствовал к Польше отвращение, ему смердили кожухи и сапоги польской шляхты; край этот свой он считал варварским, диким. Хотел его, как наследство, ради семьи, удержать, но не хотел тут ни жить, ни править.
Рассказывали друг другу презрительные отзывы Людвика и ловили признаки пренебрежения, какое не мог, казалось, не удосужился утаить.
Уже при Казимире начинающий расти антагонизм двух главных земель, которые теперь составляли Польшу, когда не хватало энергичной, объединяющей руки, проявлялся всё более отчетливо и сильней.
На похоронах, как жир от воды, отделились великополяне; отдельно ходили, стояли, совещались.
Богорию постоянно осаждали, требуя, чтобы склонил Людвика к возобновлению коронации, чтобы хотя бы показался в коронационном облачении и всём величии в Гнезне. Король Людвик, проявляя нетерпение, пожимая плечами, вполголоса что-то обещал.
Всё-таки он собирался ехать в Великопольшу, хотя венгры, как и он, стосковавшиеся по дому, возмущались и ругались.
Эти гости, которые постоянно были у бока Людвика, составляли его стражу и двор, вовсе не старались приобрести сердца поляков. Гордые паны смотрели на них свысока и обходились с ними, как если бы были не в наследуемой, а в завоеванной земле.
Всё это отталкивало всё больше.
Нарушение завещания покойного короля, смена и потбор легатов, обхождение с вдовой Казимира, дочек которой забрала королева Елизавета, отделив детей от матери, возмущали многих. Неодбитое нападение Литвы, потеря Сантока, полное обособление ленной Мазовши, снова поколебленное единство государства прогнозировали грустное будущее.
Численность недовольных росла, а гордость Людвика сердец ему не приобретала.
Уже в этот день во время похорон можно было заметить среди признака глубокой скорби не менее явные симптомы отвращения.
В замке за траурным хлебом, за тем самым столом, у которого незабвенный король Казимир так любезно принимал гостей, так сердечно обращался к ним на их собственном языке, теперь был слышен итальянский, французский, немецкий, латинский языки, только на польском никто не говорил. На старый Казимиров двор никто не смотрел, служить ему не давали, подчаший венгр захватил напитки, прибывшие стольник, каморники из Буды заняли места поляков, отстранённых от выполнения своих обязанностей.
С одной старой королевой было несколько молодых людей, из тех, кто, бывая в чужих краях, понимал другие языки, но и те, должно быть, были на стороне венгров.
Во всём чувствовалось господство чужаков, а память о Казимире в ещё большем блеске представала перед глазами.
Среди гостей воеводы Добеслава был и тот придворный короля, ростом и фигурой очень на него похожий, который во время шествия представлял особу умершего короля.
Снял он свои богатые одежды, взятые из сокровищницы, и надел траур, как все, кто принадлежали к двору покойного. Звали его Ласотой Наленчем, а в семье, в которой все по обычаю имели какое-то прозвище, смолоду его называли Мруком. Красивый, всегда мрачный и грустный, нахмуренный, молчаливый, он был известен тем, что или молчал, помурлыкивая что-то непонятное, или выпаливал какую-нибудь огненную страшную речь, которая выплёскивалась, как кипяток, потом вдруг, когда приходил в себя, прекращалась и заканчивалась могильным, упрямым молчанием.