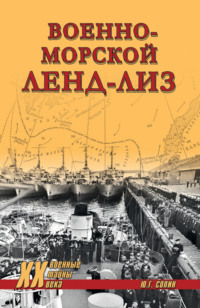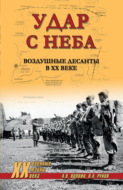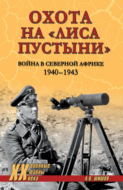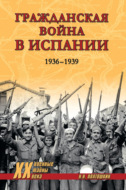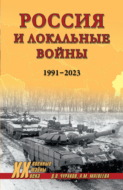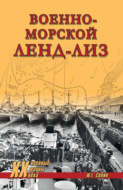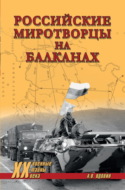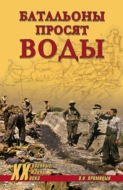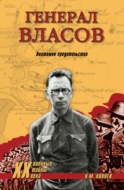Kitobni o'qish: «Военно-морской ленд-лиз», sahifa 2
Парламентские дебаты по законопроекту о ленд-лизе продолжались почти две месяца, и 8 марта 1941 года сенат США 60-ю голосами против 31-го проголосовал за него (соотношение голосов говорит о том, что далеко не все в Америке адекватно воспринимали политику, проводимую администрацией Ф.Д. Рузвельта, отреагировавшего на двухмесячные дебаты следующим образом: «…Пусть диктаторы Европы и Азии не сомневаются в нашей сплочённости. В нашем демократическом обществе решения, может быть, принимаются медленно, но когда они приняты, то это решения не одного человека, в ста тридцати миллионов…»). 11 марта президент подписал закон, и уже на следующий день (!) в конгресс был направлен запрос о выделении 7000 млн долларов для производства самолётов, танков, пушек и других материальных средств для союзников по антигитлеровской коалиции.
Приведу несколько мнений известных политических деятелей по поводу принятия Закона о ленд-лизе:
Ф.Д. Рузвельт: «…Возьмём такой пример. Для обороны… может оказаться очень важно, чтобы мы доставили им наши военные самолёты. Для себя мы можем заменить их новыми за небольшой отрезок времени. А между тем, передав эти самолёты странам, которые защищаются от агрессии, мы ещё поможем и им, и самим себе. Если же мы начнём попросту делать изъятия каких-то видов вооружений, то через несколько месяцев можем оказаться не в состоянии предпринять то, что может оказаться необходимым для нашей безопасности…»25;
он же: «…Американские парни никогда не будут направлены участвовать в чужих войнах…»26;
У. Черчилль: «…новая великая хартия… самое бескорыстное и великодушное финансовое предприятие в истории, когда-либо осуществлённое какой-либо страной…»27 (напомним, Великобритания фактически была в безвыходном положении);
Г.Л. Стимсон (военный министр США): «…мы стремимся не столько дать ссуду Великобритании, сколько купить её помощь в деле нашей собственной обороны. Мы не даём в долг, а покупаем собственную безопасность и возможность подготовиться к самозащите…»28;
Й. Геббельс (министр пропаганды Германии): «…чтобы забрать остатки Британской империи (вслед за Бермудскими островами, Тринидадом и др.) в обмен на ещё какие-нибудь заржавевшие и устаревшие американские материалы…»29;
Р. Шервуд (автор книги «Рузвельт и Гопкинс глазами очевидца»): «…Закон о ленд-лизе означал прежде всего конец того периода фальши, в течение которого Соединённые Штаты пытались обеспечить собственную безопасность контрабандными методами… Поскольку англичане занимали существенно важные для Америки позиции, наш долг заключался в том, чтобы либо укреплять силы англичан всеми возможными средствами, либо послать наши собственные вооружённые силы для занятия этих позиций и обороны их. Закон о ленд-лизе поддержал дело союзников и позволил им вести бои на всех фронтах…»30
Отметим, что все высказывания, кроме последнего, сделаны в 1941 году, сразу после вступления Закона о ленд-лизе в силу. Не будем их комментировать, поскольку со стопроцентной уверенностью можно сказать, что Закон, безусловно, писался не только в интересах союзников американцев по антигитлеровской коалиции (им некуда было деваться), но и в интересах самих США – у тех тоже не было другого выхода в сложившейся ситуации, поскольку толком не было сухопутной армии и флота на Атлантике, что, кстати, прекрасно подтвердили германские подводники, успешно проведя «танкерную войну» в прибрежных водах Америки. В современном мире такого рода соглашение, если не ошибаюсь, называется компромисс.
Руководство программой помощи по ленд-лизу было возложено на комитет при кабинете министров США в составе: государственного секретаря, министров финансов, обороны и военно-морских сил. Фактически всем процессом управлял помощник и личный друг президента Ф.Д. Рузвельта – Г.Л. Гопкинс (в дальнейшем он работал, в том числе, и с руководством Советского Союза по проблемам поставок). 2 мая 1941 года было создано специальное агентство по координации иностранной помощи – DDAR (Division of Defence Aid Reports»), ответственным исполнителем которого стал генерал-майор Д.Н. Бернс. В октябре 1941 года агентство было преобразовано в Администрацию ленд-лиза (OLLA – «Offise of Leand-Lease Administration»), во главе которой был утверждён Э.Р. Стеттиниус (до назначения был председателем правления крупнейшей в США сталелитейной компании и вице-президентом «Дженерал Моторс»), а Д.Н. Бернс был назначен его помощником31. Созданная структура была в достаточной степени громоздкой, а бюрократические трудности, с которыми сталкивались заказчики (представители различных закупочных комиссий стран-союзников) были связаны с необходимостью хождения по инстанциям – согласование технических спецификаций, разработка проектов заказов и контрактов и т. п. – и, таким образом, прохождение заявок составляло около двух месяцев. Кроме того, ещё одна проблема заключалась в том, что США на начальном этапе просто не могли удовлетворить заявки союзников на оружие и боеприпасы – их просто ещё не производили, так как не хватало производственных мощностей и, зачастую, их надо было создавать «с нуля». К примеру, в марте 1941 года в Америке было произведено всего 283 бомбардировщика и 223 истребителя, а в апреле—июне – всего 583 лёгких танка (из них 280 отправлены в Великобританию по ленд-лизу)32. И это при том, что заявка на 1941 год только Великобритании на самолёты составляла 23 тыс. единиц33, на танки – до 5 тыс. единиц34, а были ещё Китай, Греция, Югославия, Норвегия, Польша и другие государства, ставшие «жизненно важными» для США. Кроме того, существовали и собственные вооружённые силы…
Тем не менее программа ленд-лиза (и особенно её военно-промышленная – производственная – составляющая) постепенно набирала темпы, и к концу 1941 года США отправили для Великобритании 2400 самолётов (из них 100 – по ленд-лизу, остальные – по ранее заключённым контрактам), около 1100 танков (из них 900 – по ленд-лизу), автомобили, продовольствие, оборудование, материалы и т. д.
1.3. Нормативно-правовая база программы поставок по ленд-лизу для СССР
22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз – началась Великая Отечественная война. Стремительные темпы продвижения гитлеровских войск – за три недели вермахт продвинулся вглубь нашей территории до 450 км на северо-западном, до 600 километров на западном и до 350 км на юго-западном направлениях35 и захватил территорию Латвии и Литвы, большей части Украины, Белоруссии и Молдавии, где до войны производилась почти треть всей валовой продукции СССР, в частности, до 50 % чёрных металлов, до 60 % угля, до 38 % зерна и 84 % сахара)36. Серьёзные (если не сказать больше) безвозвратные потери Красной армии в личном составе, вооружении и военной технике (см. таблицу37) поставили Советский Союз на грань выживания. Военные и экономические потери были настолько велики, что любое другое государство мира практически прекратило бы сопротивление.
Положение можно было выправить как за счёт срочной мобилизации для целей обороны всех экономических (напомним, что только во второй половине 1941 года в восточные районы страны были эвакуированы 1523 промышленных предприятия38) и людских ресурсов страны, так и за счёт помощи иностранных государств – идеальным было бы сочетание обоих факторов, особенно в первый, самый сложный период войны (с 22.06.1941 г. по 18.11.1942 г.). Однако был ряд причин (они указаны ранее), по которым на иностранную помощь руководству СССР особо, если не полностью, рассчитывать не приходилось. Тем более важен тот факт, что уже 22 июня 1941 года, сразу после выступления по радио наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова, премьер-министр Великобритании У. Черчилль, заявив о своём в целом неприятии коммунистической идеологии, приветствовал СССР в качестве СОЮЗНИКА (выделено автором) в борьбе против Германии: «…Мы обеспечим всякую возможную помощь России и русскому народу…»39 – и, начиная подтверждать своё заявление, уже 26 июня для решения конкретных вопросов оказания помощи СССР отправил в Москву военную и экономическую миссию во главе с послом С. Криппсом, хотя прогнозы английской разведки по поводу войны на Востоке были неутешительными: «…Советский Союз продержится не более шести недель…»40
Тем не менее политические руководители Великобритании (и США) прекрасно понимали, что переориентация германской агрессии на Восток ослабляет, без сомнений, давление на Западе, но боялись, как бы Советский Союз не капитулировал или, что ещё хуже, не заключил сепаратного мира с Германией. 27 июля 1941 года С. Криппс в беседе с В.М. Молотовым от имени правительства Великобритании предложил немедленно установить военно-экономическое сотрудничество и предоставить СССР необходимую информационную и техническую помощь, в том числе – в ближайшее время предоставить СССР 25 тыс. тонн каучука и 5 тыс. тонн олова. «…Что касается промышленной продукции, то в этом отношении придётся обратиться к США, так как промышленность Англии работает на свою оборону…»41 (так выглядит мягкая форма «перевода стрелок». – Примеч. авт.). В целом же английская миссия, проводившая в Москве консультации по вопросам взаимопомощи, «…не выявила никаких границ для сотрудничества, кроме границ возможного…»42. Итогом работы миссии С. Криппса в СССР стало подписание «Соглашения о совместных действиях правительства Союза ССР и правительства Его Величества в Соединённом Королевстве в войне против Германии», в котором правительства обоих стран обязывались оказывать друг другу поморщь и всякого рода поддержку в войне против гитлеровской Германии43. Кроме того, в соответствии с «Соглашением…» Великобритания предоставила Советскому Союзу кредит в размере 10 млн фунтов на закупку вооружения и материалов, а с 6 сентября поставки из Великобритании стали проводиться по условиям ленд-лиза44.
В соглашении содержались следующие пункты:
1. Оба правительства обязуются оказывать друг другу помощь и поддержку всякого рода в настоящей войне против гитлеровской Германии.
2. Они далее обязуются, что в продолжение этой войны не будут ни вести переговоров, ни заключать перемирия или мирного договора, кроме как с обоюдного согласия45.
Таким был первый, пока только чисто политический, без серьёзных реальных практических аспектов, шаг, приведший, в итоге, ко всестороннему сотрудничеству стран, имевших диаметрально противоположенные социальные строи и идеологию.
Какова же была позиция политического руководства США в отношении взаимодействия с СССР в начале Великой Отечественной войны?
Так, в первый же день войны официальный представитель Белого дома осудил «вероломное нападение Гитлера» на Советский Союз и заклеймил его как новое доказательство стремления нацистов к мировому господству – «…не коммунизм, а гитлеровские армии являются главной опасностью для Америки… и США приветствуют всякое противодействие гитлеризму, откуда бы оно ни исходило…»46. На пресс-конференции Ф.Д. Рузвельта, состоявшейся 23 июня, президент подчеркнул, что «…правительство США готово помочь России военными материалами, хотя наиболее важная задача сейчас – ускорить поставки по ленд-лизу в Англию, потому что таким путём мы усилим наступательную мощь английских войск на западе, пока советские войска сражаются с гитлеровцами на востоке…»47.
К этому необходимо добавить, что общественное мнение в США (опрос был проведён службой Гэллапа 24 июня) в этот момент склонялось против помощи Советскому Союзу (35 % голосов – «за», 54 % – «против»48. Тем не менее правительство США решило оказывать помощь СССР, но в объёме, который был бы не ущерб поставкам Великобритании и Китаю (последнему шли поставки в рамках его борьбы с Японией). Решить проблему поставок СССР на этом этапе американцам было достаточно просто – США с момента заключения пакта Молотова – Риббентропа отказали в большей части экспортных лицензий на товары, заказанными нашей страной в Америке, и в результате этих товаров скопились большие запасы, приносившие ежедневные убытки производителям (в результате в течение двух недель в СССР было отправлено различных материалов на 9 млн долларов, однако оружия среди них не было). В дополнение к этому в Администрации ленд-лиза был создан отдел поставок в Советский Союз, возглавляемый генерал-майором Ч. Вессоном, на который 21 июля 1941 года президент Ф.Д. Рузвельт официально возложил ответственность за организацию «немедленной и существенной помощи СССР». 30 июня Советский Союз через посла в США К. Уманского уже представил первую заявку на скорейшую поставку 3 тысяч бомбардировщиков, 3 тысяч истребителей, 20 тысяч зенитных пушек, 50 тысяч тонн толуола, высокооктанового бензина, а также оборудования для военных предприятий на сумму, как подсчитали американцы, в 1837 млн долларов49. Основную часть суммы долга за вооружение предполагалось оплатить в счёт будущего пятилетнего кредита, остальное – по бартеру (речь о ленд-лизе обеими сторонами пока не велась – ещё не возникло взаимное доверие). Объём русской заявки привёл американцев в изумление – с одной стороны, он предполагал перепланирование расписаний поставок и перепрофилирование предприятий на выпуск недостающей (или не производящейся) продукции, а с другой стороны, коренным образом «ломал» обязательства США перед Великобританией, поскольку военная промышленность США могла к этому времени выпускать не более 1700 различных самолётов различных модификаций в год, а зенитных орудий практически не производилось (на август 1941 года в американской армии было всего 600 зенитных орудий, причём – устаревших образцов). Такая же, если не худшая картина была с высокооктановым бензином – для производства его в объёмах, запрашиваемых СССР, требовалось не менее 2-х лет50. Но… политические заявления необходимо подкреплять реальными практическими шагами, и, пусть медленно и не в запрашиваемых объёмах, поставки в СССР из США, пусть и не по программе ленд-лиза, пошли…
В первых числах июля 1941 года для согласования планов совместных военных действий против Германии (содержание планов представлено в приложении 151) из Москвы в Лондон была направлена военная миссия под руководством заместителя начальника Генштаба РККА – начальника разведывательного управления генерал-лейтенанта Ф.И. Голикова. Миссии, совместно с послом СССР в Великобритании И.М. Майским, ставилась задача «…довести до британского правительства, что СССР будет драться до конца, что немецко-фашистские войска не сломят советский народ… Однако, Красной Армии нужна эффективная реальная помощь со стороны союзников: прежде всего открытие военных действий против Германии на Западе, а также помощь военными материалами…»52. Тем не менее, кроме согласования планов совместных действия по отдельным незначительным вопросам, на первых порах миссия успехов не имела – сказывалось неверие военных и политических руководителей Великобритании в стойкость советского народа и его армии. Показательным в этом отношении является высказывание бывшего премьер-министра Великобритании и старого недруга СССР Л. Джорджа: «…Оттягивая на себя всю германскую армию, СССР так же, как и Россия в прошлую войну, спасает Англию. Англия же, по существу, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ (выделено автором) для помощи СССР… Между тем исход всей войны зависит сейчас от СССР…»53 (порой удивляешься, как это люди, ушедшие из политики, умудряются резко становиться трезвомыслящими. – Примеч. авт.). Ф.И. Голиков 12 июля был отозван в Москву, и место руководителя военной миссии в Великобритании занял контр-адмирал Н.М. Харламов, который долгие три года (1941–1944 гг.) совместно с дипломатическими представительствами обеспечивал поставки в СССР вооружений и материалов как из Великобритании, так и из США. Практически одновременно с советской военной миссией в Лондон (и далее – в Москву) был направлен помощник президента США и одновременно руководитель Межправительственного комитета помощи России Г. Гопкинс, который, проведя переговоры с премьер-министром Великобритании У. Черчиллем, убедился, что британское руководство (как и американское) считает русский фронт главным, и вопрос о всесторонней поддержке Советского Союза также не вызывает разногласий. Провожая Г. Гопкинса в Москву, У. Черчилль просил передать И.В. Сталину, что «…у Британии лишь одно стремление, одно желание – сокрушить Гитлера…»54. Прибыв в Москву, Г. Гопкинс дважды встречался с И.В. Сталиным (и неоднократно – с руководителями различных наркоматов), в ходе бесед с которым был выработан ряд важных положений, которые в дальнейшем легли в основу соглашений между СССР и США:
1. Основа союзнических отношений – совместная борьба против Гитлера.
2. Помощь Советскому Союзу от США гарантирована.
3. Структура помощи должна состоять из двух частей: оперативной (должна быть оказана в течение ближайших двух недель) и помощи, рассчитанной на всё время войны (её размеры и условия должны быть определены специальным соглашением, подписание которого было запланировано на первую половину октября 1941 года)55.
Уверенность советского руководства в победе настолько подействовала на представителя президента США, что тот перед отлётом (1 августа) направил Ф.Д. Рузвельту телеграмму следующего содержания: «…Я очень уверен в отношении этого фронта… Здесь безграничная решимость победить…»56. Эти слова подтверждает Э. Стеттиниус: «…Я видел Г. Гопкинса сразу по его возвращении в Вашингтон. Он рассказал, что Сталин оба раза говорил с ним вполне откровенно и закончил утверждением: “В этом году немцы ни в коем случае не войдут в Москву”. Г. Гопкинс отметил также, что мощь Красной армии, как и решимость советских людей, чему он сам был свидетель, могут служить подкреплением этой уверенности Сталина…»57 Заметим, что после возвращения Г. Гопкинса из Москвы Ф.Д. Рузвельт поручил военному министру Г. Стимсону срочно послать в СССР 150 самолётов: «…Я нуждаюсь в укреплении боевого духа русских. Наша помощь СССР имеет первостепенную значимость для безопасности Америки»58.
А генерал-лейтенант Ф.И. Голиков был направлен И.В. Сталиным в США для ведения переговоров о насущных проблемах – закупках вооружений и различных материалов, а также для решения вопросов о займах и способах доставки в СССР закупленных материалов. Более сложная задача, стоявшая перед ним, – выяснение позиции американских политических деятелей по вопросу совместных действий. По прибытии в США Ф.И. Голиков встретился с генералом Д. Маршаллом (в беседе с ним были обсуждены проблемы поставок вооружения и материальных средств, а точнее – невозможности удовлетворить потребности СССР в них в короткие сроки, если только часть заказов Великобритании не перенацелить в Советский Союз), после чего Ф.И. Голиков и члены его миссии были приняты Ф.Д. Рузвельтом.
По итогам беседы с советским представителем президент США потребовал ускорить отправку заказов в СССР: «… Война в России идёт уже шесть недель, но пока в Россию не идут нужные ей товары…»59, в том числе столь нужные Советскому Союзу самолёты, танки и противотанковые орудия. Однако к концу ноября в СССР было отправлено только 79 лёгких танков, 59 истребителей Р-40 (за счёт английского заказа) и около тысячи грузовиков60.
К этому необходимо добавить, что Великобритания, невзирая на собственные нужды, в августе—сентябре 1941 года направила в СССР самолёты и танки, которые приняли участие в октябрьских и ноябрьских боях (в том числе под Москвой) Красной армии61. В то же время в беседе с послом И.М. Майским 4 сентября 1941 года У. Черчилль заявил, что понимает тяжёлое положение Советского Союза и полон желания оказать ему помощь всеми доступными средствами «…в течение 11 недель советский народ ведёт борьбу против Германии один, лишь при незначительной поддержке со стороны английской авиации»62, но исключил возможность серьёзной помощи до наступления зимы «ни путём устройства второго фронта, ни путём обеспечения широкого снабжения нужными вам видами оружия. Всё, что мы можем сейчас дать – это лишь капля в море»63.
2 августа военный министр США Г. Стимсон и посол СССР К. Уманский обменялись нотами об очередном продлении до 6 августа 1942 года советско-американского торгового соглашения 1937 года, о выдаче лицензий на экспорт в СССР оружия и о предоставлении для перевозок американского морского транспорта (достаточно интересное соотношение сторон: какое отношение имел военный министр к торговым отношениям? – Примеч. авт.). Таким образом, это были ПЕРВЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ межгосударственные документы, определявшие отношения двух стран в войне64. Однако, как известно, наиболее важные документы по взаимоотношениям государств (а к таким, безусловно, должно причислить и документы по оказанию Великобританией и США помощи СССР «на всё время войны») должны подписывать первые лица государств, а не их представители, в рамках личных встреч, и такие встречи в 1941 году состоялись.
Первая встреча президента США Ф.Д. Рузвельта и премьер-министра Великобритании У. Черчилля состоялась в рамках Атлантической конференции (место проведения бухта Арджентия у берегов Ньюфаундленда на борту английского линкора «Prince of Welles»). В ходе конференции руководители обеих стран 14 августа 1941 г. подписали так называемую «Атлантическую хартию», провозглашавшую основные принципы национальной политики стран после «окончательного уничтожения нацистской тирании»: сохранение территориальной целостности оккупированных государств; выбор форм правления по желанию народов; восстановление суверенных прав и самоуправления народов, подвергшихся оккупации; полное сотрудничество между странами в экономической области; доступ на равных основаниях к мировым сырьевым источникам и торговле; отказ от применения силы и избавление от бремени вооружения65 (24 сентября СССР официально присоединился к Атлантической хартии). На конференции президент и премьер-министр, заслушав доклад Г. Гопкинса по результатам его встреч с И.В. Сталиным, составили совместное послание последнему, в котором сообщили о своей готовности снабдить Советский Союз «максимальным количеством тех материалов», в которых он нуждается. Кроме того, в послании предлагалось подготовить и провести в Москве совещание, на котором решить вопрос о распределении общих ресурсов66.
Анализ документальных итогов Атлантической конференции позволяет отметить следующее:
1. США и Великобритания убедились, что несмотря на тяжелейшие поражения, понесённые Красной армией в первые месяцы войны, Советский Союз упорно защищается и «блицкриг» Гитлера фактически провалился.
2. Не имея возможности (или желания) открывать второй фронт в Европе, США и Великобритания были готовы оказать (и уже понемногу оказывали) СССР помощь вооружением, боеприпасами и различными материалами военного и общеэкономического назначения для успешного ведения им военных действий.
3. Для обеспечения устойчивого снабжения Красной армии и СССР в целом было необходимо обеспечить плановость заказов вооружения, боеприпасов и различных материалов, а также транспортного обеспечения поставок как из США, так и из Великобритании (в том числе вопросов обеспечения безопасности перевозок), для чего была желательна встреча руководителей государств (или их полномочных представителей) для окончательного формирования и подписания документов, регламентирующих эти отношения.
В августе 1941 года руководство США и Великобритании (по согласованию с И.В. Сталиным) приняло решение послать в Москву совместную англо-американскую миссию, чтобы, в рамках решений Атлантической хартии, разработать полную и долгосрочную программу помощи СССР. От американской стороны миссию вместо планировавшегося Г. Гопкинса (тот тяжело заболел после поездки в Москву) возглавлял А. Гарриман – бизнесмен и координатор ленд-лизовской помощи Великобритании (в состав миссии входил генерал-майор Д.Н. Бернс), от английской стороны – лорд У. Бивербрук (министр по делам снабжения). Работа миссии была предварена указаниями Ф.Д. Рузвельта военному министру Г. Стимсону о проработке мероприятий по распределению вооружений между союзниками до 30 июня 1942 года с условием «… обеспечения России всей возможной помощью…», причём не только немедленной, но и на весь период войны67. К этому его подстегнуло письмо И.В. Сталина от 3 сентября к У. Черчиллю (доведённое последним до президента США), в котором говорилось, в том числе, о необходимости срочной отправки в СССР 30 тысяч тонн алюминия и минимум 400 самолётов и 500 танков ежемесячно68. В.Н. и И.В. Красновы отмечают в этой связи любопытный факт – А. Гарриман, инструктируя свою делегацию перед совещанием в Москве, говорил: «…давать, давать и давать, не рассчитывая на возврат, никаких мыслей о получении чего-либо взамен…»69 – это – позиция, и позиция сильного человека!
Некоторую «пикантность» ситуации придавал тот факт, что, по мнению президента США, часть американской военной помощи Великобритании теперь должна была быть перераспределена в интересах СССР, да и сама Великобритания часть собственной продукции должна была направлять туда же, причём – под контролем США. Эта тема широко обсуждалась в ходе англо-американских переговоров между А. Гарриманом и У. Бивербруком в Лондоне в период с 15 по 21 сентября и закончилась обоюдным согласием только потому, что обе стороны признали, что только помощью можно удержать СССР в войне (союзники всё еще боялись одностороннего выхода Советского Союза из войны, как это было с Россией в 1918 году) – обе стороны решили, что «… русские сейчас единственный народ в мире, серьёзно ослабляющий Германию… и в интересах Англии обойтись без некоторых вещей и передать их России…»70.
Кроме того, в США до момента отлёта делегации в Москву было неясно, из каких источников будет финансироваться помощь России – слушания в конгрессе по этому поводу (ленд-лиз или кредиты) шли полным ходом. В связи с тем, что Ф.Д. Рузвельт пока не имел формальной поддержки конгресса, он на свой страх и риск принял решение (в случае неуспешности решения ему грозил импичмент – к вопросу о роли личности в истории. – Примеч. авт.) перенести на СССР действие закона о ленд-лизе под видом помощи Великобритании71 (как писал У. Черчилль И.В. Сталину: «…чтобы помощь, оказанная британским правительством, покоилась на той же базе товарищества, на какой построен американский закон о займе-аренде, то есть без формальных денежных расчётов…»72).
Союзная миссия начала свою работу (совместно с представителями советского правительства) в Москве 29 сентября 1941 года. Уже на следующий день руководители комиссий по видам поставок (авиационной, армейской, военно-морской, транспортной, сырьевой и медицинской) представили согласованные между союзниками материалы, причём ни одна из категорий поставок не встретила отказа с англо-американской стороны, правда, по танкам и самолётам запросы СССР были удовлетворены согласно письму И.В. Сталина к У. Черчиллю от 3 сентября (500 и 400 в месяц соответственно)73. 1 октября (в течение двух суток была разработана девятимесячная программа помощи Советскому Союзу!) В.М. Молотов, А. Гарриман, У. Бивербрук подписали Первый (Московский) протокол о поставках в СССР вооружения и материалов до 30 июня 1942 года.
Согласно «Протоколу…» США и Великобритания обязались в указанный период поставить в Советский Союз 3600 танков, 4500 самолётов, 12,7 тысяч артиллерийских систем, сотни тысяч тонн различного оборудования, сырья, продовольствия и материалов74. 30 октября, через пять дней после возвращения американской миссии на родину, Ф.Д. Рузвельт, подробно ознакомившись с материалами «Протокола…», сообщил И.В. Сталину, что «…все военные поставки утверждены. Я приказал как можно скорее обеспечить сырьё, с тем чтобы немедленно начать доставлять всё необходимое в максимально возможных количествах. Чтобы избежать финансовых трудностей, в ближайшее время будет сделано распоряжение, чтобы поставки стоимостью до 1 млрд долларов проводились по Закону о ленд-лизе. Я предлагаю, если Советское правительство одобрит это, чтобы образовавшаяся таким образом задолженность не подлежала обложению процентами и чтобы СССР не начинал выплат до истечения пяти лет с окончания войны, а все выплаты долгов были бы завершены в течение десяти лет после этого…»75.
Ответ И.В. Сталина был таким: «… Советское правительство полностью одобряет Ваши заверения, что решения конференции будут выполнены до конца. Ваше, господин Президент, решение выделить Советскому Союзу беспроцентный заём, дающий возможность приобрести вооружения и сырьё, с искренней благодарностью воспринято Советским правительством как чрезвычайно существенная помощь в нашей великой и трудной борьбе против общего врага – кровожадного гитлеризма. От имени правительства Советского Союза я полностью принимаю указанные Вами условия…»76. Содержание «Протокола…» по видам поставляемых вооружений и материалов представлено в приложении 2, при этом отметим, что вопросы обеспечения заявок по Военно-морскому флоту и медицинскому обеспечению должны быть рассмотрены в Вашингтоне и Лондоне дополнительно.
Кстати, Э. Стеттиниус отмечает в своих воспоминаниях, что случайно или нет, но президент США Ф.Д. Рузвельт официально объявил оборону СССР жизненно важной для безопасности США 7 ноября 1941 года – в день военного парада на Красной площади (очень интересное совпадение, не правда ли? – Примеч. авт.).
Одним из важнейших вопросов всех поставок был, естественно, вопрос о расчётах. 18 августа 1941 года было подписано Соглашение о товарообороте, кредите и клиринге между СССР и Великобританией, по которому Советский Союз получал кредит на сумму 10 млн фунтов под 3 % годовых77. Эта сумма должна была быть оплаченной в течение пяти лет, причём 40 % суммы – наличными долларами, а 60 % – пятью равными долями78. Это соглашение распространялось в основном на «невоенные поставки», составившие 0,4 % от всей стоимости поставок Великобритании, а вся остальная её помощь (с 6 сентября 1941 года) осуществлялась в рамках программы ленд-лиза79.
Примерно по той же схеме строились и взаимоотношения по расчётам между СССР и США: в августе 1941 года президент Ф.Д. Рузвельт подтвердил запрос о первоочередных военных поставках на сумму 145 млн долларов, из которых 50 млн предоставлялись в виде ссуды, 10 млн оплачивались золотом, а на 100 млн СССР обязался поставить марганцевой и хромовой рудой, асбестом, платиной и другими материалами80.
Bepul matn qismi tugad.