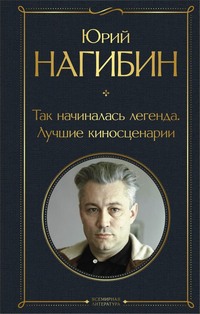Kitobni o'qish: «Так начиналась легенда. Лучшие киносценарии»
Директор
Поздняя осень 1917 года. Замоскворечье.
Клены свешивают из-за оград свои голые, лишь редко украшенные золотым или мрамористым листом ветви.
Улочка будто вымерла, и потому особенно гулок стук кованых сапог по каменным плитам тротуара. Идут три моряка-балтийца; Кныш, Рузаев и Зворыкин. Из подъезда за ними следят настороженные глаза дежурных так называемой домовой самообороны. Иногда вздрогнет занавеска в окне какого-нибудь мезонина, стрельнут вслед моряку заинтересованные, испуганные, а то и нежные женские глаза.
В одном доме чуть трепетавшая занавеска вдруг храбро отдернулась, и на моряков упал прямой, смелый, яркой синевы взгляд.
Зворыкин оборвал шаг, будто наскочив на незримую преграду. Он даже головой тряхнул, прогоняя наваждение.
Перед ним – обветшалое деревянное строение в два этажа, внизу лавчонка – выцветшим маслом по железу написано: «Скобяная торговля Феофанова». А на втором этаже – золотое, розовое, синеглазое чудо.
Зворыкин сошел с тротуара и, задрав голову, сделал несколько шагов к дому.
Девушка в окне засмеялась. Зворыкин ринулся вперед.
– «Скобяная торговля Феофанова»! – прочел Кныш и сплюнул.
Моряки двинулись своей дорогой.
Зворыкин, верно, и сам не помнил, как вбежал по скрипучим ступенькам наверх, как рванул запертую дверь и сорвал с запоров, как оказался в полутемной прихожей. Перед ним открылась анфилада комнат, и в самом конце этой анфилады была Она. Навстречу Зворыкину кинулась монашеского обличья нестарая женщина, похожая на располневшую боярыню Морозову, и, вздымая двуперстие, закричала во весь голос:
– Изыди, сатана!.. Свят!.. Свят!.. Свят!..
За «боярыней Морозовой» возникло лисье старушечье лицо и смуглая обезьянья мордочка девочки лет пятнадцати. А откуда-то слева, из темноты, чуть подсвеченной лампадой, несся гневный стариковский голос:
– Кто посмел?
Но Зворыкин ничего этого не видел, не слышал. Отстранив «монашенку», он медленно шел по комнатам, обставленным скудно и мещански (он не видел и этого, а если бы и увидел, то, верно, счел бы роскошью), увешанным клетками с певчими птицами, в основном кенарями, которые по мере его приближения начинали посвистывать, пощелкивать.
И вот Она – в грозной близости от Зворыкина эта девушка кустодиевской красоты, конечно, не русская Венера, но русская Психея: стройная, статная, с тонкой талией и округлыми плечами, с сильными бедрами, ровным и легким дыханием, с лицом прелестным чистотой, свежестью и быстрой сменой выражения.
Подходя к ней, Зворыкин, едва ли ведая, что он делает, скинул на пол вещевой мешок, уронил с плеча винтовку, сорвал бескозырку и вдруг закрыл глаза и пошел, ведомый внутренним зрением.
И у девушки стало обреченное лицо, и она закрыла глаза и пошла ему навстречу, вытянув вперед руки. И они коснулись друг друга…
А по другую сторону двери, которую Зворыкин, войдя, бессознательно захлопнул за собой, вся семья Феофановых медленно продвигается из глубины квартиры. Парализованный глава семьи крутит руками колеса передвижного кресла Они уже приблизились к дверям, как вдруг «боярыня Морозова» рванулась вперед и, раскинув крестом руки, загородила дверь.
– Стойте! – громко шепчет она – Сей муж ниспослан нам свыше…
– Что ты мелешь, дурища? – раздраженно говорит старик Феофанов.
– «Грядет жених по полунощи»… неужто не постигаете знамения? Птицы Божие об осеннюю пору на вешний лад разливаются. Славят воителя грозного, жениха нашей Санны нареченного!..
И все с удивлением глядят на распевшихся не по времени кенарей…
По лестнице кубарем скатывается Зворыкин, выбегает на улицу, но Кныш и Рузаев уже ушли…
…Окраина Замоскворечья. Поперек маленького дворика натянута веревка, на которой сушится и лубенеет под морозцем бедняцкое белье: латаные простыни, наволочки, штопаные чулки, детские лифчики, трусы, рубашки.
Раздвинув жестяные паруса двух простынь, во двор входит Зворыкин, он оглядывается, улыбается.
Из кривой хибары, похожей на сопревший лапоть, появилась маленькая пожилая женщина с тазом в руках, замахнулась, чтобы опорожнить таз, и увидела Зворыкина.
– Петруша!.. – проговорила она и выронила таз из рук.
– Маманя! – кинулся к ней Зворыкин. – Да ты что… Это ж я, Алеха!
– Сыночек… – маленькая женщина, всхлипывая, припала к большому телу сына, – до чего же ты с отцом покойным схож! Ну точь-в-точь он, когда с японской вернулся… может, даже лучше еще, – добавила она, застенчиво любуясь сыном.
– Алешка приехал! – слышится истошный крик.
Из дома как горох посыпались младшие Зворыкины: братья и сестры Алексея. Они приветствуют брата каждый на свой манер: те, что постарше, сурово толкают кулаком в плечо и, скрывая радость, мужественно буркают «здорово!»; те, что помоложе, визжат от восторга, виснут на Алексее, теребят его бушлат.
– Кш, мелкота! – отбивается тот. – Держите, гостинцы привез. – Он бросает им свой вещевой мешок.
Мать с каким-то неуверенным выражением, то ли горестным, то ли испуганным, глядит на своего старшего.
– Надолго к нам? – тихо спрашивает она.
– Надолго, – улыбнулся Алексей. – Может, и навсегда… А ты чего такая смутная?
– Не знаю… – Она провела рукой по лицу. – Не верится мне, что это ты… Здоров ли, все ли у тебя ладится?
Алексей захохотал.
– Еще б не ладилось! Революцию сделал – раз, женился – два!
– Аль правда?.. Да когда же ты успел?
– Только что… по пути домой.
– Как звать жену-то?
– Невесту, – поправил Алексей. – Свадьбу еще не играли.
– Ну, невесту…
– Это покамест не уточнено… – чуть смущенно говорит Алексей.
– Шутишь небось? – слабо улыбнулась мать.
– Вот те крест!.. – И тут же сурово поправился: – Слово большевика! Купчишки Феофанова дочь. Может, слышала, скобяная торговля?
– Ох ты! – с уважением говорит мать. – И хорошее приданое дают?
– Какое приданое, им теперь хана. Приданое будет только от жениха.
– Да у нас хоть шаром покати!
– Ошибаешься, маманя, у нас теперь вся страна! Вот какие мы богатеи! – И, рассмеявшись, Алексей первым прошел в дом…
…Бедный свадебный стол в доме Зворыкиных. Во главе стола – Алексей с молодой женой. Рядом с ней – Варвара Сергеевна Зворыкина, дальше – юные члены семьи, а из посторонних – пожилой пьяненький сосед да верзила токарь по прозвищу Каланча Последний танцует польку в паре со Степаном Рузаевым.
– За молодых! – говорит сосед, и в ту же секунду снаружи раздается оглушительный взрыв.
Кныш схватился за наган. Алексей вскочил, общее смятение.
Пошатываясь, входит один из меньших Зворыкиных с черным лицом и опаленными волосами.
– Силен салют? – спрашивает он. Алексей достает из-под лавки пулеметную ленту, гнезда для патронов пусты.
– Ах, босяк! – говорит он укоризненно. – Весь боезапас извел. Ну ладно, а мы ведь так и не выпили за молодых. – И он неприметно подмигнул старшему из братьев.
– Горько! – покраснев, произнес тот и опустил глаза Кныш тяжелым, неотрывным взглядом уставился на целующихся молодых.
– …Мне Алешкин отец заместо брата родного был, – бормочет пьяненький сосед. – Всю русско-японскую мы с ним борт о борт прошли…
– Как же они тебя за мово-то отдали? – спрашивает Варвара Сергеевна невестку.
– Я сама ушла…
– И не жалко тебе их?
– Холодные они, как лягушки… и расчетливые. Я для них тоже товаром была, вроде гвоздей или крючьев. Отец-то разорился почти… А что они не больно удерживали, то это их Фенечка, старшая сестра надоумила «Божий знак… птицы запели… грядет жених…» Хитрая она, эта святоша, авось при новой власти такой зять, как Алексей, лучше другого богатого сгодится… Варвара Сергеевна «мама» Я вас об одном прошу – не пускайте их на порог, коли сунутся.
Каланча подходит с рюмкой к Зворыкину;
– Ну как, Алеха, не тянет на завод-то?
– Еще как тянет. Да вишь, делов невпроворот: тут тебе и свадьба, и революция, да и контра, обратно, внимания требует…
– А все-таки не забывай…
Алексей энергично подмигивает другому брату.
– Горько! – кричит тот.
Алексей немедленно «подсластил питье».
И снова блестящий, неприятный взгляд Кныша прилипает к молодым.
– Алешенька, если тебе хочется, целуй меня просто так, – говорит, высвобождаясь, Саня. – Ты же все глаза проморгал!
– Хватит лизаться, Алеша, – вмешивается Рузаев. – Холостому человеку глядеть тяжело.
В комнату вошла Фенечка, старшая сестра Сани. На ней обычное темное монашеское платье, строгость которого смягчена белым отложным воротничком.
Саня рванулась, будто хотела вышвырнуть сестру вон, но свекровь удержала ее.
– Будет тебе!.. Что мы, бусурмане какие, чтоб гостью гнать?.. Заходи, заходи, Аграфена Дмитриевна, милости просим!
– Я только на минуточку, – заверила Фенечка – Молодых поздравлю – и ко всенощной! – Она низко кланяется Зворыкину, Сане и подает ей расшитую бисером и бусинками картину, серафимы венчают победой архистратига Михаила, толстозадые ангелочки обвивают гирляндой не то раскаявшуюся грешницу, не то свежеиспеченную святую. – Прими, сестрица, вместе с родительским благословением.
Саня небрежно швыряет подарок на комод.
– Садись, девушка, – приглашает Фенечку Каланча.
– Швартуйся к нам, божья овца! – галантно добавляет Рузаев.
– Я с краешку, с краешку!.. Горячего вовсе не буду, только посижу полюбуюсь, – лицемерит Фенечка.
Рузаев схватил ее за руку и усадил возле себя. Наполнил сырцом большую рюмку и поднес ей.
– Ну-ка, опрокидонт!..
– Сей нектар и монаси приемлют! – поддерживает пьяненький сосед.
Фенечка отстранила рюмку и налила себе граненый стакан.
– За молодых! – возглашает Фенечка и лихо опрокидывает стакан в рот.
– Горько-о-о! – исполнившись непонятным восторгом, заорала самая маленькая из Зворыкиных, едва возвышаясь над столом двумя белобрысыми макушками.
Зворыкин снова потянулся к жене.
Кныш резко поднялся и, ни на кого не глядя, пошел к выходу.
– Кныш, ты куда? – с доброй хмельной улыбкой крикнул Зворыкин.
Кныш не ответил, громко хлопнула входная дверь.
– А, пусть уходит! – крикнула Фенечка, успевшая хватить еще стакашек. – Ну его, он гулять не умеет. Играй, моряк!..
Рузаев схватил гармонь, развернул мехи, Фенечка метнулась из-за стола, ударила каблучком об пол и запела визгливо:
Ах, милый мальчик, хороший пупсик!
Париж, Париж. Чего ж ты мне сулишь?
Ах, Лизавета, мне странно это,
Но почему ты без корсета?..
Кныш чуть задержался в сенях дома, прислушиваясь к оставленному им веселью, затем шагнул вперед.
…Чуть теплится ночник, бросая трепещущие пятна света на убогую китайскую ширму, отгородившую новобрачных от остальной семьи в их свадебную ночь. На пожухлом шелке ширмы проступают изображения драконов, обезьян, причудливых рыб, небывалых растений. Слышится тихий, изо всех сил сдерживаемый плач. Прижав кулаки к глазам, плачет Саня.
Зворыкин отнял от подушки голову, заморгал ошалело со сна и вдруг яростно привскочил на постели.
– Ты что?.. Кто тебя?..
– Тсс! – Она прикрыла ему рот влажной от слез ладонью. – Ребят разбудишь.
– Почему ты плачешь?
– Не знаю… грустно чего-то…
– Ты не думай!.. – зашептал он горячо. – Это только сейчас так… У нас все будет: жилье, барахло…
– Перестань! Разве я об этом, дурачок?.. За другими девушками ухаживают, цветы дарят, в театр водят, в иллюзион, а после предлагают руку и сердце. А я из девичьей – сразу в постель.
– Ну и что же! У нас с тобой все наоборот пойдет. Вот жизнь маленько образуется – откроются театры, увеселения всякие, и я стану за тобой ухаживать, как жених, и цветы куплю или украду где… И еще мы на карусели покатаемся, и в цирк сходим, и к зверям…
– Правда?
– Клянусь революцией!
– Тогда – горько, Алешенька…
Они не успевают разомкнуть объятия, как снаружи доносится шум шагов и грубых мужских голосов, затем раздается громкий стук в дверь.
Зворыкин кидается отворять дверь. Едва он приподнял засов, как дверь распахнулась, на пороге появились люди в бушлатах, грудь перекрещена пулеметными лентами.
– Зворыкин, какого дьявола!.. – заорал Кныш, но тут увидел полураздетую Саню; голос его сел в хрипотцу, а блестящий, неприятный взгляд, словно переломившись, уперся в молодую женщину.
– Кныш?.. Чего разоряешься?.. – начал Зворыкин, и тут он заметил, как смотрит на Саню вошедший. Зловеще усмехнувшись, Зворыкин повернул ему голову.
Кныш ударом кулака отбросил руку Зворыкина.
– Рано залег! – произнес он с яростью, обращенной толи на Зворыкина, то ли на самого себя. – Контра обратно зашевелилась!
Шумно выдохнув свое разочарование, Зворыкин потянулся к висящей на стене винтовке…
Зворыкин и Кныш идут по ночной улице.
– Долго валандаться будем? – сердито спросил Зворыкин.
– Небось успеешь к своей буржуйке! – огрызнулся Кныш.
– Учти, Кныш, это в последний раз. – Голос Зворыкина звучит очень серьезно. – Ты о жене моей говоришь. Сверну рыло.
– Далеко тебе до моего рыла, – бормочет Кныш. – А ты какого черта в чужой огород залез?..
– Тебя не спросился!.. – сверкнул глазами Зворыкин…
Двор. В углу двора стоит машина, возле нее возится десяток человек. Машина упорно не желает заводиться. Люди поочередно крутят заводную рукоять, чертыхаясь, орут друг на друга, но делу это не помогает. Подходят Зворыкин и Кныш. Оттолкнув какого-то матроса, Зворыкин открыл капот. Одного взгляда ему оказалось достаточно, чтобы обнаружить неполадку. Он что-то подвернул и с пол-оборота завел мотор. Люди кинулись в кузов. Зворыкин сел за руль, Кныш – рядом с ним. Машина, подвывая, выехала за ворота. Вдали сухо щелкали выстрелы…
Метет, метет метель по улицам Москвы, завывает ветер на перекрестках и в подворотнях домов, колышет оборванные полотнища с воззваниями и лозунгами. Редкие фонари освещают улицу с длинными безнадежными очередями…
Лето. Автомобильные мастерские, именуемые обычно заводом. Уныло-прерывисто звучит осипший гудок: не то сигнал тревоги, не то обычные позывные завода.
Зворыкин в расстегнутом бушлате и сбитой на затылок бескозырке проходит захламленный заводской двор и входит в полуразрушенный цех.
Станки – токарные, шлифовальные и прочие – бездействуют. Небольшая группа рабочих покуривает, несколько размундиренных солдат режутся в очко. Кое-кто «трудится»: один ладит рукоятку к финскому ножу, другой чинит примус, третий сверлит отверстие в железной трубке для кресла. Зворыкин замечает все это своими острыми, цепкими глазами.
– Здоров, Алеха! – От группы курильщиков отделился токарь Каланча. – Каким ветром занесло?
– Революционным, балтийским! – радостно отзывается Зворыкин. – Ну, как вы тут?..
– Неинтересная наша жизнь, Алеха, сам видишь – сплошное непотребство.
– А где кадровики, где пролетариат?
– На Галицийских полях, на Мазурских болотах полегли, – вздохнул Каланча. – Кое-кто, конечно, приполз домой, а так, – он махнул рукой, все больше вчерашние землепашцы или не помнящие родства…
– Здорово, ученик! – Возле них остановился пожилой усатый мастер Василий Егорыч.
– Уже не ученик, Василий Егорыч, а помощник судового механика, – уважительно отозвался Зворыкин, пожимая усатому руку.
– Сюда-то сердце привело или дело есть? – спросил Василий Егорыч.
– Нешто сердце с делом всегда поврозь? – усмехнулся Зворыкин.
Им не удалось поговорить. С громким шумом в цеховые ворота хлынула толпа людей, враз заполнив обширное и пустынное помещение. И тут же с революционной быстротой возник митинг. Полуинтеллигентного вида человек в пенсне на самоварной физиономии взобрался на разбитый станок и зычно объявил;
– Товарищи рабочие, мировой капитализм перешел в наступление… В Нефанленде разогнали демонстрацию!..
Потрясенное этим сообщением собрание разразилось гулким ревом.
Голос из толпы. Даешь резолюцию!
Второй голос. Пошлем протест. И объявим неделю дружбы!
Первый голос. С кем?
Второй голос. С этим, как его… Ну, где разогнали…
Первый голос. С Нефанлендом? А как мы с ним будем дружить? Он небось в Африке.
Третий голос. По переписке придется!
Председательствующий. Товарищи рабочие, включим неделю дружбы с Нефанлендом в месячник солидарности со всеми чернокожими народами!
– Кто этот горлопан? – спросил Зворыкин своих друзей.
– А бес его знает! Объявился вдруг… Говорит красный директор, – отозвался Василий Егорыч.
– Прошу слова! – зычно крикнул Зворыкин.
«Красный директор» поглядел на живописную фигуру моряка: тельняшка, бушлат, смоляные кудри из-под бескозырки – и как-то засомневался.
– Даешь слово революционной Балтике! – крикнул Василий Егорыч.
Его поддержали, и Зворыкин одним прыжком очутился на «трибуне».
– Товарищи рабочие, кто мне скажет, какая в России власть? – обратился он к собранию.
– Да никакой нету, – ответил размундиренный солдат на костыле.
– Как так? – поперхнулся Зворыкин. – Выходит, Россия сирота?
– Не горюй, морячок, найдется дрючок! – ломаясь, крикнул костыльник.
Зворыкину надоело пустое препирательство.
– Эх вы! – сказал он с горечью. – Я на этом самом заводе еще мальчишкой на хозяина горбину гнул… Нешто мог я тогда мечтать… – Он задохнулся и вдруг наклонился к толпе – и в упор: – Совесть у вас есть? Себя же проигрываете! Завод в бардак превратили?..
– Не с того голоса поешь, товарищ матрос! – перебил его «красный директор». – Для революционных масс нет святее…
– А пошел ты знаешь куда! – отмахнулся Зворыкин.
Тот попятился и чуть не свалился с «трибуны».
– Не больно командуй! – послышалось из толпы. – Подумаешь, енерал какой выискался!
– Братцы, никак, старый режим вернулся! – заорал костыльник. – Хозяев страны в рыло норовят! – И он театрально рванул на себе ворот.
– Будет тебе, припадочный! – прикрикнул Василий Егорыч. – Чего людей мутишь?
– Братцы, у него под тельником гидра! – взвизгнул костыльник.
– Гнать его в шею!..
– Долой!
И прежде чем Зворыкин приготовился к отпору, десятки рук потянулись к нему, сорвали с «трибуны» и потащили из цеха Друзья Зворыкина тщетно пытались ему помочь.
Зворыкина вынесли из цеха и швырнули на землю. Толпа повалила назад в цех. Зворыкин поднялся.
– Ну, огляделся на заводе, кореш? – услышал он за спиной знакомый голос.
Степан Рузаев, в кожанке, с маузером на боку, глядел на него из-под насупленных бровей.
– Как видишь… – хмуро отозвался Зворыкин. Под глазом у него натекал громадный багровый синяк.
– Ясно, – сказал Рузаев и, пошарив в кармане, протянул ему большой медный пятак. – На, полечись… – И решительно направился в цех, знаком пригласив Зворыкина следовать за собой.
Когда они вошли, «красный директор» продолжал поднимать «революционную активность» масс.
– Мы должны со всей решительностью сказать: «Руки прочь от Гренландии!» – но, увидев Рузаева, он вдруг осекся – похоже, этим людям уже приходилось сталкиваться.
Рузаев вскочил на «трибуну» и втянул за собой Зворыкина, все еще прижимающего пятак к багровому натеку.
– Товарищи рабочие! – начал Рузаев. – Декрет о национализации завода подписан вон когда, а ваша продукция – ноль целых хрен десятых, двести митингов и тысяча резолюций. Так, братцы, дело не пойдет, мировой империализм протестами не запугаешь, работать надо. – Он повернулся к «красному директору». – Считаю кабинет в нынешнем составе распущенным.
– Рабочий класс доверил мне пост «красного директора»! – вскричал председательствующий.
– Рабочий класс тебе, может, и доверил, – отозвался Рузаев, – да только ты этого доверия не оправдал.
Раздались голоса рабочих:
– Правильно!.. В самую точку!..
– Я протестую! – взвизгнул «красный директор».
– Валяй, браток, – хмуро усмехнулся Рузаев, – протест шли по адресу: Нефанленд – Рузаеву. – И он легонько так, плечиком подтолкнул «красного директора», мигом очутившегося внизу. Предупреждая возможные осложнения, Степан Рузаев словно бы невзначай передвинул кобуру с маузером.
Толпа зашевелилась, на передний план выдвинулись настоящие кадровики, в том числе друзья Зворыкина.
– Вот что, ребята, – доверительно сказал Рузаев. – Революции позарез нужны броневики. Мы их вам с неделю назад в ремонт пригнали. А вы ни в зуб ногой, только митингуете.
– У нас теперь только горлом работают, – с горечью сказал Василий Егорыч.
– Кто громче орет, тот и герой, – добавил Каланча.
– Для ремонта нужны материалы, а у нас их нет! – раздался сухой интеллигентный стариковский голос.
Позади «трибуны», в тени, сбилась кучка заводских инженеров и техников; вид у них потертый, обносившийся, но все же они пытаются сохранить достоинство. Голос принадлежал инженеру Маркову, рослому и тощему старику, напоминающему Дон Кихота.
– Да у вас на заводском дворе до черта разных материалов! – вмешался Зворыкин. – Это же форменное золотое дно!
– Конечно, огромный технический опыт этого господина, – иронически отозвался Марков, – не имею чести знать ни имени, ни звания – делает его в этом вопросе более компетентным, нежели мы. Но я могу перечислить материалы и средства производства, отсутствующие…
– Вот именно: отсутствующие! – взорвался Зворыкин. – А на кой… хрен, пардон, нам это нужно знать? Извиняюсь, конечно, но если так рассуждать, то и революцию нельзя было делать. У нас не было ни авиации, ни артиллерии, ни продовольственных запасов. Я могу не хуже вашего до завтра перечислять, чего у нас не было. Но мы исходили не из того, чего нет, а из того, что есть, и сделали революцию, и довольно неплохо.
Рабочие одобрительно смеются.
– В точку!.. – поддержал Василий Егорыч.
– Давай, морячок, крой на все сто!.. – гаркнул костыльник.
– Кто этот кривоглазый Демосфен? – спросил Марков инженера Стрельского.
– Что вы, Марков, неужели не узнаете? Это знаменитый пират Биль Бонс.
– Ищи да обрящешь! – издевательски крикнул костыльник. – У себя в штанах поищи!
– Молчи, дура! – цикнул на него Василий Егорыч. – Не снижай революционного настроения.
– Слушай сюда! – крикнул Степан Рузаев. – Имя этого кореша, – обратился он к рабочим, – еще не гремит в промышленном мире, но шарики у него варят, и Московский комитет поручает ему обеспечить вас всем необходимым для ремонта броневиков!..
Зворыкин спрыгнул вниз. Его окружают рабочие.
– Все необходимые материалы у вас под боком – на складах железнодорожных мастерских, – объявил Зворыкин.
В ответ – смех, улюлюканье.
– Открыл Америку!..
– Эва, какой шустрый!..
– Ходили мы туда, Алеха, все пороги обили, – грустно сказал Василий Егорыч. – Да они как собаки на сене: сами не пользуются и другим не дают.
– Значит, плохо просили, – сказал Зворыкин. – Без души.
– Еще как просили-то!.. Умоляли, можно сказать… Так они нас с Каланчой взашей вытолкали!
– Просить надо с подходцем – дело тонкое!.. На сознательность брать. Вот увидите, мне они не откажут…
…Вечером к ремонтным мастерским Казанской железной дороги подкатил пустой товарный вагон. Проехав мимо наружного поста, он остановился возле складских помещений. Из вагона выпрыгнул Зворыкин, направился к сторожу.
– Здорово, служба! Кто сказал: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь»?!
Сторож растерянно заморгал.
– Знать надо своих учителей, – заметил Зворыкин и тут же, зажав сторожу рот, повалил его на землю.
Из вагона посыпали рабочие автозавода, устремились к складским помещениям.
Наружный пост. Часовой мирно покуривает цигарку.
Со складского двора катится тот же «порожний» товарный вагон. Часовой откинул шлагбаум, пропустил вагон. И вдруг, спохватившись, заорал «Стой!» – и выстрелил в воздух.
По минному коридору знакомый нам сторож ведет Зворыкина. Распахнулась дверь, и Зворыкина втолкнули в комнату, где за письменным столом сидит Кныш. От его моряцкого вида не осталось и следа Он весь закован в кожу, его сильный, сухой торс перекрещен командирскими ремнями.
– Послушай, Кныш, когда кончится эта буза? – по-свойски накинулся на него Зворыкин. – Долго мне еще тут торчать? Дела не ждут!
Кныш ответил словно издалека:
– Вы уже довольно натворили дел, гражданин Зворыкин.
– Ты что, с ума спятил? Подумаешь, начальство! Меня не запугаешь!..
– Молчать, мародер! Не в кубрике! – Кныш тяжело опустил кулак на столешницу. – Снюхался с классовым врагом и сам стал сволочью!..
– Белены объелся? – Что-то растерянное появилось в голосе Зворыкина – Я ваших железнодорожных жлобов по-хорошему просил; отдайте металл. Но они ж!..
– Людей расстреливают за мешок пшена, – перебил Кныш.
– Ты меня с мешочниками не равняй! – вскипел Зворыкин. – Хватит дурочку строить, я к начальству пойду.
– Слушай, Зворыкин, – презрительно говорит Кныш, – у начальства есть другие заботы, чем с купеческими зятьками валандаться.
– Вот что! – Рот Зворыкина дернулся в волчьей усмешке. – Тогда понятно… небось сам на мое место не прочь? Думаешь, не видел, как ты на нее зенки пялил?
Рука Кныша непроизвольно рванулась к пистолету, но огромным усилием воли он сдержал себя, заставил свой голос звучать спокойно.
– Я думал, в тебе пробудится классовая совесть, но черного кобеля не отмоешь добела. Ты был бойцом и товарищем, но ссучился возле купчишек, перерожденец ты, анархиствующая сволочь. Таким не место ни в революции… ни в жизни…
…И снова ведут Зворыкина по длинному, пустынному коридору. И с мертвым звуком захлопывается дверь подвала.
…Кабинет Кныша. Саня Зворыкина и Кныш. Лицо Сани мокро от слез; взволнованный встречей, Кныш старается быть особенно официальным.
– Я не верю! – в отчаянии говорит Саня. – Вы не поступите так!
– При чем тут я, Александра Дмитриевна? – пожимает плечами Кныш. – Закон… Ваш муж совершил тягчайшее преступление: он ограбил железнодорожный склад, похитил тонны железа, стали…
– Не для себя же!..
– Это не имеет значения. Поймите: если мы не накажем Зворыкина, какой пример мы подадим? Как защитим мы наше молодое неокрепшее государство от бандитов, жуликов, расхитителей всех мастей?..
– Не говорите так!.. Это ваш друг!..
– Тем более я не имею права быть снисходительным!
– Господи!.. Кныш, миленький!.. Да как же так? – Саня рыдает. Она подходит к Кнышу и, едва ли сознавая, что делает, хватает его за руки.
В страшном смятении Кныш отдергивает руки.
– Что вы, Александра Дмитриевна, как можете вы плакать. Из-за него? Он вас не стоит… Посмотрите на себя и на него! – горячо говорит Кныш. – Вы чистая, светлая, а он… Он весь в этом своем преступлении. Жадные, загребущие руки, готовые схватить все, что плохо лежит. Он так же схватил и вас, походя, почти не замечая, что делает…
– Кто дал вам право так говорить? – оскорбленно спросила Саня.
– Я выстрадал это право… Послушайте, Александра Дмитриевна, я знаю одного человека, он не чета Зворыкину, прямой, цельный во всем…
– Не нужен мне этот человек, да и я ему не нужна, – устало произнесла Саня.
– Вы имеете в виду свое происхождение? Он простит вам это! – вскричал Кныш. – Он подымет вас до себя! Санна, – продолжал он проникновенно, – у меня есть две любимые: революция и ты, Санна! Я полюбил тебя, как увидел. Я сидел на твоей свадьбе и думал, что умру от боли.
– Не надо так говорить… нельзя. – Как бы не относилась Саня к Кнышу, есть что-то покоряющее в силе и подлинности чувства, которое владеет им в эту минуту.
– Я буду так говорить! – самозабвенно продолжал Кныш. – У меня никого не было… ты будешь первой и единственной моей женщиной! – Кныш опускается на колени перед молодой женщиной, ловит ее руки, пытается спрятать лицо в ее коленях.
Саня испуганно отбивается.
– Пустите!.. – кричит она – Пустите!
В приемной слышится шум. Дверь распахнулась, и на пороге появляется Рузаев в сопровождении двух служащих железнодорожной охраны.
Кныш поворачивает к вошедшим будто слепое лицо, похоже, он не сознает происходящего.
– Вот что!.. – тяжелым голосом произносит Рузаев. – А ну, подымите вашего начальника, он, видать, в коленках ослаб…
Саня выбежала из кабинета…
– Ты думал, тебе разрешат швыряться такими людьми, как Алеша Зворыкин? – спросил Рузаев.
– Нарушение революционной законности, расхищение государственной собственности, экономическая контрреволюция… – как в бреду бормочет Кныш.
– Ладно, – оборвал его Рузаев. – Московский партийный кабинет берет Зворыкина на поруки…
Подвал. Зворыкин сидит на табурете, зажав лицо руками. Щелкнул замок, в подвал заглянул старик сторож Зворыкин мгновенно отнял руки от лица, принял независимый вид.
– Собирайся, что ли, – говорит сторож зевая.
– Куда? – Тень беспокойства мелькнула на лице Зворыкина.
– На кудыкину гору… – лениво ответил сторож.
…По территории железнодорожных мастерских идут Зворыкин и Рузаев.
– Кто тебя, дурака, надоумил? – Рузаев стучит себя по лбу. Массивное лицо его пылает гневом.
Зворыкин совсем скис, опустил голову.
– Сам же говорил; броневики позарез нужны… – оправдывается он вяло.
– Выходит, броневики нам нужны, а бронепоезд не нужен, снаряды не нужны? Так, что ли?.. Учти, по партийной линии мы тебя еще взгреем.
Зворыкин тяжело вздохнул и насупился. Они вышли за ворота, и глазам их предстало чудо: новенький, горящий полированными бортами, сверкающий серебром радиатора изумительный «Роллс-Ройс». За баранкой дремал матрос, положив ноги на щиток. Но что самое поразительное – Рузаев уверенным, хозяйским жестом распахнул дверцу этой дивной машины. Зворыкин на миг забыл обо всем на свете: о своем недавнем аресте, угрозах Кныша, гневе Рузаева. Он впился глазами в черно-пылающее чудо, потрогал, колеса и шины, обошел кругом, нагнулся и стал разглядывать подбрюшье.
– Броневики-то хоть будут? – допытывался Рузаев.
Но в лицо ему уставился зад друга, туго обтянутый матросским сукном. Соблазн был чересчур велик, и Рузаев в сердцах пнул коленом этот нахальный зад.
– Чего дерешься? – обиделся Зворыкин.
– Мало еще! – гневно сказал Рузаев. – Спустить бы с тебя портки да всыпать горячих.
– Угнал? – спросил Зворыкин, кивнув на машину.
– «Угнал»?.. Опять в тебе это бандитское!.. Всучили мне ее, терпеть не люблю эти буржуйские штучки!
– Много ты понимаешь!.. Экий красавец! «Роллс-Ройс», – произнес он нежно.
Рузаев с удивлением глядит на друга. Никогда еще не видел он на его сильном лице такого растроганного выражения.
– Чудак ты, ей-богу! Ну, ладно, дыши – будут броневики?
Зворыкин кивнул, не сводя глаз с машины.
– Через неделю?
Снова кивок.
– Не врешь?.. Откуда ж возьмутся броневики, если материалов нету?
– Не твоя забота!.. – пробурчал Зворыкин.
– Разве у вас не отобрали награбленное?
– Отобрали… что нашли.
– Ну, черти! – расхохотался Рузаев. – Полезай! Домой подкину.
Зворыкин шагнул к машине, распахнул дверцу и ловким движением сорвал с сиденья спящего матроса.
– Вот гнида, щиток сапожищами измазал!
Одуревший со сна матрос ринулся было на свое место, но Зворыкин отшвырнул его прочь.
– Сам поведу! – сказал он властно. – Тебе, салага, в классных машинах не ездить.
– Это почему же? – обиделся матрос.
– Таких, как ты, в бочках с дерьмом возят, – отрезал Зворыкин, бережно протер щиток и тронул с места.
Машина остановилась у дома Зворыкина.