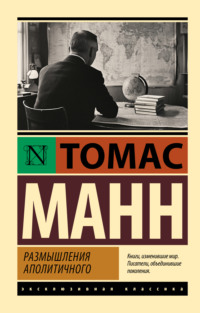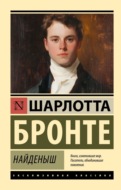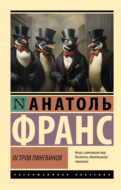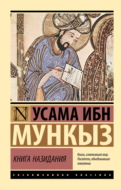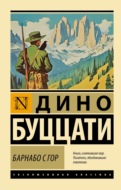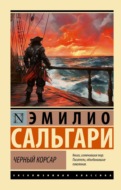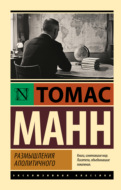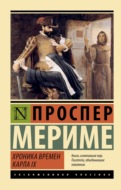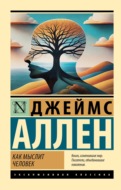Kitobni o'qish: «Размышления аполитичного»
Biror narsa noto‘g‘ri ketdi, keyinroq qayta urinib ko‘ring
50 053,25 s`om
Janrlar va teglar
Yosh cheklamasi:
16+Litresda chiqarilgan sana:
31 iyul 2025Tarjima qilingan sana:
2025Yozilgan sana:
1918Hajm:
670 Sahifa 1 tasvirISBN:
978-5-17-172738-3Tarjimon:
Mualliflik huquqi egasi:
Издательство АСТseriyasiga kiradi "Эксклюзивная классика (АСТ)"