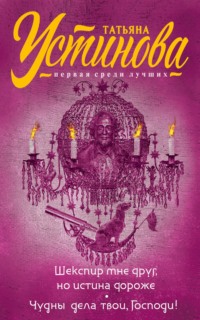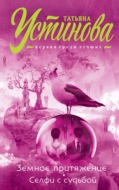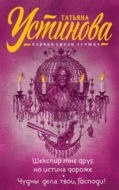Kitobni o'qish: «Шекспир мне друг, но истина дороже. Чудны дела твои, Господи!»
© Устинова Т., 2016
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
Шекспир мне друг, но истина дороже
Всю ночь ревел и грохотал запутавшийся в кровле ветер, и ветка старой липы стучалась в окно, мешая спать. А с утра пошел снег. Максим долго и бессмысленно смотрел в окно – просто чтобы оттянуть момент, когда все же придется собираться. Крупные хлопья кружились в ноябрьской предрассветной метели, медленно падали на мокрый почерневший асфальт, фонари мерцали в лужах уродливыми бледно-желтыми пятнами. Москва из последних сил ждала настоящей зимы – чтобы, как только она придет, начать ждать весну. Максим больше всего на свете любил весну – зеленую, жаркую, полуденную, осоловелую, с квасом из бочки и прогулками в Нескучном саду – но до нее еще жить и жить, и как-то не верится, что доживешь.
Свет бил по глазам, в голове гудело, будто в трансформаторной будке. Ведущий новостного канала – возмутительно бодрый для половины шестого утра – рассказывал, что «предсказанное потепление на европейской территории немного задерживается и ожидается снегопад». «Иди к черту!» – посоветовал ведущему Максим Озеров и выключил телевизор.
Сашка уже убежала на дежурство. В ее умении просыпаться в неизбывно хорошем расположении духа заключалось необъяснимое для Озерова шаманство: Сашка была весела, легка, всегда с удовольствием завтракала и всем своим видом напоминала Максу породистую деловитую таксу, собравшуюся с хозяином на лису. Сам он так не умел: чтобы встать, ему приходилось заводить по десять будильников, по утрам кровоточили неизвестно откуда взявшиеся за ночь заусенцы. Озеров замерзал, шаркал ногами, сшибал углы и мучился от осознания собственного несовершенства и душевной лености. Сашка его жалела и – если ему случалось уходить раньше – готовила завтрак. Он всегда отказывался, а она его заставляла есть.
На столе стояла чуть теплая турка с остатками кофе и громадная старинная корзина с крышкой, ремнями и потемневшим латунным замочком. Корзина была покрыта махровым кухонным полотенцем. Из-под полотенца торчал полированный термос и оптимистический край краковской колбасы. К корзине был пришпилен листочек с подписью: «С собой».
Значит, снег?.. Максим Озеров с вызовом вытащил из шкафа и оглядел свой красный походный, с подранным рукавом пуховик. Ну пуховик, а что такое?.. Если снег валит, впереди четыреста верст с гаком, значит, пуховик, а вовсе не щегольское пальтецо, на которое он рассчитывал! Предсказанное потепление задерживается, ясно сказано. То есть, видимо, его следует ждать к весне.
– Весна! – продекламировал Максим в тишине квартиры. – Выставляется первая рама! И в комнату шум ворвался! И благовест ближнего храма! И говор народа! И стук колеса!
Хорошо хоть вчера на сервисе проверили колеса – все четыре, – и ни одно не стучит. Он влез в пуховик, закинул рюкзак на плечо, схватил Сашкину корзину – та приветственно хрустнула – и вышел вон.
Озеров гнал свой внедорожник из Москвы, натужно скрипели «дворники», широкие шины с гулом давили мутную воду в раскатанной колее федеральной трассы «Волга», фары резали серую пелену снега и мороси. Вчера он договорился заехать на дачу за Федей – Кратово было по пути, но сейчас Максим надеялся, что Величковский проспит, и тогда он на нем отыграется. Поблуждав немного по старому и очень сонному поселку, Озеров наконец вывернул на нужную улицу.
У ворот одного из домов маячила сутулая фигура, облаченная в ядовито-зеленый балахон, чудовищных размеров брезентовые штаны и оранжевые меховые мокасины. Образ завершала надвинутая на глаза банная войлочная шапка с надписью крупной вязью «Пар всему голова». В одной руке фигура держала рюкзак размером с небольшой дом, в другой – Озеров почти не поверил глазам! – бутылку шампанского; по балахону, оказавшемуся сноубордической курткой с львиной мордой на спине, струился черный провод наушников.
Федя Величковский не проспал.
– Господин режиссер! Что же вы мне не сигнализировали? Мы же уговорились, что вы будете звонить! А вы? Надули мальчонку? – Федя, кое-как упихав в багажник свой неимоверный рюкзак, бесцеремонно залез в корзину с Сашиными припасами, оценивающе обнюхал колбасу и с энтузиазмом и даже с некоторым вожделением вопросил: – А яйца вкрутую и свежие огурцы есть?..
– Товарищ сценарист! – Озеров зевнул, не разжимая челюстей. – Сарынь на кичку! Садись давай!
– И вам доброго утра!
Хлопнули двери, довольно рыкнул бензиновый «вэ-восемь», и «лифтованный» темно-зеленый с ярко-оранжевым шноркелем джип весело покатил по размытой поселковой дороге.
Величковский сбросил меховые мокасины и, подобрав под себя ноги, как йог, устроился в широченном кожаном кресле.
– Завтракать будем во Владимире на заправке, – распорядился он. – Я все продумал.
Под глупой войлочной шапкой нестерпимо чесалась голова, но Федя твердо решил, что шапку ни за что не снимет. Во всяком случае, пока начальник не обратит на нее должного внимания.
– Угу, – без всякого энтузиазма отозвался Озеров.
Нет уж, одним «угу» дело не обойдется! Величковский почесался и продолжил проникновенно:
– Вы, господин режиссер, заправите свой экипаж, а я – Чайльд Гарольд – буду заедать скверно сваренный кофе сосиской в тесте. Устроившись за столиком у окна, буду смотреть на стремительные авто, пролетающие сквозь туман из черно-серебристой взвеси снега и дождя в… эээ… – Федя на секунду запнулся, подбирая наиболее пошлый эпитет, – в едва вылупившееся, неприветливое хмурое утро.
– Низкопробно! – вынес вердикт Озеров.
Для Величковского это была вторая поездка, он пребывал в прекрасном настроении, любил весь мир и особенно себя в нем. Приглашение в экспедицию было равносильно вовлечению в круг посвященных, особым знаком, который означал «ты свой среди своих». Что-то вроде высшей правительственной награды и очень закрытого клуба, куда принимали только самых верных, близких и перспективных. «Близким и перспективным» Федя был всего полгода. И никто – даже Озеров – не догадывался, как ему это нравилось!
Командировки придумал Владлен Арленович Гродзовский – генеральный директор «Радио России», акула, столп и Мефистофель радийного мира. Несколько раз в году Гродзовский именным указом отправлял Озерова – своего главного режиссера, подельника и десницу – в какой-нибудь провинциальный город с театром, где Максим виртуозно и очень быстро записывал спектакли по русской и иностранной классике для Госрадиофонда. Постановки получали европейские премии, уездные театры – славу и небольшой приработок, а сотрудники радио – ощущение причастности и отдыха без отрыва от родного производства. Работа в таких поездках всегда была… чуточку понарошку.
Вот и теперь главный режиссер, лауреат всего и абсолютный профессионал Озеров был уверен, что с чеховской «Дуэлью» в нижегородском Государственном театре драмы управится дня за два. В худшем случае – за два с половиной. А дальше – неделя официальной командировки, когда можно болтаться по городу, бродить по музеям, сходить на комедию в театре, где уже все свои, пить пиво и есть раков в ресторанах на набережных. Именно так сейчас представлялись Озерову «несколько дней из жизни московского режиссера в Нижнем Новгороде».
Работы для Величковского не было никакой – его везли исключительно в награду за труды. Скорее даже авансом. Он был неплохим автором, и Озеров безошибочным чутьем определил, что со временем станет очень даже неплохим!.. Федя талантливо и совершенно бесстыдно писал любую, даже самую лютую конъюнктуру, соблюдал такт, умел задавать вопросы, производить нужное впечатление, знал, когда можно спорить и когда надо согласиться, и не прощал себе халтуры.
Он был ленив, непунктуален, прикидывался фрондером и циником.
Озеров подобрал Федю на утреннем спортивном канале, где тот работал корреспондентом и прославился минутным сюжетом про веломарафон, сумев на спор восемнадцать раз употребить слово «когеренция», да так ловко, что материал вышел в эфир.
Вести машину было тяжело. Снегопад только усиливался, и трассу ощутимо припорошило. Здоровенный внедорожник скользил и плавал в колее, Максиму постоянно приходилось «ловить» рулем его рысканья, а в метели все сливалось: и редкие воскресные машины, аккуратные, настороженные в тумане, и сереющий язык шоссе со смазанной разметкой, и разбитая грязная обочина…
– Ну и погодка! – изрек Федя. Он достал из кармана своих невообразимых штанов электронную сигарету, откинулся на спинку кресла и попытался затянуться – не получилось. – Как это работает?
– Заболел? – Озеров, скосив один глаз на Федю, выхватил у него изо рта сигарету и бросил ее в подстаканник между сиденьями. – В моей машине не курят!
– Они экологичные, – возразил Федя.
– Зафрахтуй во Владимире автобус и кури себе, – пригрозил Озеров, – и сними эту войлочную кепку!
– Ну наконец-то, Максим Викторович! – Федя бросил шапку на заднее сиденье и принялся с упоением, как обезьяна, чесаться. – Я в ней два часа сижу, как дурак, а вы только заметили! Где ваша режиссерская наблюдательность?
– Я машину веду. Наблюдаю за дорогой.
– Все равно, – продолжал Федя с энтузиазмом. – Для нас, работников искусства, самое главное – наблюдать за жизнью и делать выводы. Вот вы делаете выводы из жизни, Максим Викторович? Наблюдаете ли вы за ней?
– Сейчас нет.
– А я наблюдаю всегда! И категорически утверждаю, что любое событие можно восстановить по его финалу! Если вы знаете, чем именно оно закончилось, как наблюдательный человек, вы всегда сможете сказать, что именно послужило толчком! Так сказать, понять, что было вначале – слово или не только слово, а еще кое-что!
– М-м-м, – протянул Озеров, – чего ты начитался-то? Американских психологов? Или на тебя так старик Конан Дойл подействовал?
Перед самой командировкой Федя закончил сценарий по рассказам о Шерлоке Холмсе. Он долго возился, примеривался и в конце концов раскопал какой-то дореволюционный перевод, вот сценарий и получился занятный и совершенно не узнаваемый, как будто Конан Дойл вдруг взял и написал совершенно новую историю.
Максиму так понравился этот сценарий, что он даже начальству его показал. Начальство подумало и распорядилось взять перспективного Федю в Нижний. Мальчик должен отдохнуть, развеяться и почувствовать себя «частью целого».
– И этой фигней обзавелся! – Максим кивнул на подстаканник, в котором болталась электронная сигарета. – Трубку бы лучше купил.
– Я не курю, вы же знаете! Мамаша против, да и вообще Минздрав предупреждает! Но как писателю без цыбареты? Посмотрите вокруг – все вьюжит, все серо, все темно. Пустота и мрачность! В душе хаос и страсть к разрушению!
– Это у тебя в душе хаос и страсть?
– А что? – заинтересовался Федя. – Не заметно?
В Петушках метель пошла на убыль, а во Владимире и вовсе улеглась. Они перелезли через какую-то невидимую стену, за которой вдруг не осталось вьюги и предстоящей зимы. Небо стало подниматься, черный, сырой от снежной взвеси асфальт высох, стал тут же пыльным, «дворники» впустую скрипели по лобовому стеклу. Какое-то время их джип мчался будто бы по границе между временами года, а потом вдруг где-то наверху ослепительно ярко сверкнуло солнце. Оно брызнуло сквозь дыру в небесах, прорвав облака, залило дорогу, поля, черневший в отдалении лес, искрой блеснуло в зеркале заднего вида бегущей впереди легковушки, отвесно упало на пыльное торпедо джипа. Бесконечную слепую серость сменила контрастная зелено-сизая дымка, пронизанная теплым солнечным светом, последним в этом году.
Они нацепили темные очки – движение получилось синхронным и «крутым», как в фильме про спецагентов и инопланетян. Озерова это развеселило.
Вечно забитая фурами владимирская окружная оказалась абсолютно свободной. Федя, провозгласивший себя штурманом и уткнувшийся в «девайс», отбросил его за ненадобностью. Интернет едва шевелился, пробки не загружались, а Озеров знай себе давил на газ – технологии в очередной раз были посрамлены.
– А вы, господин режиссер, знаете, куда править? – спросил Федя. Он выудил из бардачка помятый зеленый атлас и принялся скрупулезно его изучать. – Мы в квадрате Е-14, правильно? Или… или С-18?
И стал совать атлас под нос Озерову. Максим атлас оттолкнул.
– Тут по прямой, Федь. По прямой аж до самого Нижнего. Авось не промахнемся.
Они ехали деревнями. Почему федеральная трасса проложена через деревни? Неудобно это, медленно, небезопасно, да и вообще!.. Федя всегда стеснялся, но ему страшно нравилось это азиатское варварство. Была в нем какая-то правильность – без деревень и дорога не дорога!.. Он любил читать странные названия, угадывать ударения – чем дальше от Москвы, тем проще ошибиться: Ибредь, Липяной Дюк, Ямбирно, Ахлебинино… Феде было жаль покосившихся, почерневших ветхих деревенских домов, разрушенных то ли вибрациями от многотонных грузовиков, круглыми сутками шедших по прорубленной прямо посреди поселка трассе, то ли злодейским попустительством хозяев, то ли просто каким несчастьем. Поэтому он всегда в каждой деревушке по пути выискивал какой-нибудь крепкий, справный, надстроенный, блестящий свежей, не облупившейся краской дом – просто чтобы радоваться ему и думать: «Вот какая красота!»
Он никогда и никому в этом не признался бы – все же он фрондер и циник, знающий, что жизнь мрачна и несправедлива. Да и лет ему немало, двадцать четыре весной стукнуло. И за плечами у него всего полно – ссора с отцом из-за выбора профессии, университет, гордый отказ от аспирантуры, неудачный роман, неудачный первый сценарий, неудачный первый репортаж!.. В общем, Федя был закаленным бойцом, но до слез жалел бездомных собак и от души радовался справным домикам.
Сразу после Владимира он начал ныть и скулить, что хочет есть и «размяться». Озеров какое-то время отвечал, что он должен быть мужественным и терпеть лишения – это была игра, она веселила обоих, – а потом Максим зарулил на заправку.
Федя затолкал ноги в мокасины, замяв задники, и вывалился наружу.
– Холод собачий! – провозгласил он с восторгом. – Подайте мне шапочку, Максим Викторович, в уши надует!
Озеров кинул ему шапку «Пар всему голова», которую Федя немедленно напялил.
– Вы пока заправляйтесь, а я в очередь! Вам эспрессо или капучино?
– В какую еще очередь? – под нос себе пробормотал Озеров, выбираясь из машины. – Откуда здесь очередь?
Небеса сияли, и было так холодно, что дыхание застывало и, кажется, шуршало около губ. Максим застегнул под подбородком воротник пуховика. После долгого сидения в машине его пробирала дрожь. А Сашка думала, что у него будет «пикник на обочине», корзину собрала!..
– Максим Викторович! – закричала высунувшаяся из стеклянных дверей голова Величковского. – Вы припасы-то захватите!
– Балда, – под нос себе сказал Озеров и прокричал в ответ: – Не захвачу! Сам съем!
В помещении заправки было чисто, светло и вкусно пахло – кофе и сдобой. К прилавку с булками стояла очередь, столики в кафе все были заняты. Федя сидел за стойкой у окна на высоком никелированном стуле, второй предусмотрительно придерживал рукой и неистово замахал Максиму, как сигнальщик на борту корабля.
– Что ты машешь?
– Да тут видите какой ажиотаж наблюдается! Теперь вы держите стул, а я пойду в очередь. Вам капучино или эспрессо? Хотите, я принесу из багажника шампанское, вы напьетесь, а дальше я поведу?
– Федь, дуй в очередь. Мне чай. Черный.
– С молоком? – уточнил Федя. – Как кузине Бетси?
Они прихлебывали из больших стеклянных кружек, Федя откусывал попеременно то сосиску, то «улитку сладкую с ванильным кремом». Еще одна сосиска – запасная, – дожидалась на пластиковой тарелке, и Феде весело было думать, что все еще впереди.
– Так что – детали! – провозгласил он с набитым ртом. – Самое главное детали, Максим Викторович. Оскар Уайльд сказал, что только очень поверхностные люди не судят по внешности! Вот к примеру! О чем вам говорит моя внешность?..
Озеров засмеялся и оглядел Федю с головы до ног – тот немедленно напялил шапку «Пар всему голова».
– Твоя внешность говорит мне о том, что ты лентяй, разгильдяй и самоуверенный тип. – Федя с удовольствием кивал. – Какой у тебя рост? Метр девяносто?
– Три, – подсказал Федя. – Метр девяносто три.
– Всякая форма тебе противна.
– Из чего вы делаете такой вывод, Максим Викторович?
– Вместо того чтобы принять сколько-нибудь приличный вид – все-таки едешь в командировку, да еще с начальством, да еще в незнакомое место! – ты напяливаешь на все свои сто девяносто три сантиметра безразмерные брезентовые штаны и куртку, подозрительную во всех отношениях. Человека в таких штанах и куртке уж точно нельзя принимать всерьез, но ты об этом даже не думаешь.
– Не думаю, – подтвердил Федя, тараща шоколадные глаза. – Я знаю, что вы ко мне относитесь всерьез, а на остальных мне наплевать. Заседания, свидания и любовные куры в ближайшую неделю не планируются. Так что ваш вывод неверен. Неверен, коллега!..
«Коллегами» всех называл отец-основатель и «организатор наших побед» Гродзовский, и Феде страшно нравилось такое обращение.
– Но эксперимент должен быть чистым! Меня вы хорошо знаете и, следовательно, пристрастны. Но вот – остальные люди! Что вы скажете о них?
– Федь, доедай и поедем.
– Подождите, Максим Викторович! Что вы, право? Воскресенье в полном нашем распоряжении, а мы уже проделали путь, сравнимый…
– Сегодня вечером спектакль. Я хочу посмотреть.
Федя нетерпеливо махнул рукой с зажатой в ней сосиской.
– Мы успеем, и вы об этом прекрасно знаете!.. – Он перешел на шепот: – Вон сидит парочка. Ну, вон, вон, за тем столиком! Что вы о них скажете?
Озеров непроизвольно оглянулся. Мужчина и женщина, довольно молодые, жевали бутерброды, каждый глядя в свой телефон.
– Они поссорились, – сообщил Федя в ухо Максиму. – Поездка не задалась! Вы обратили внимание, как они расплачивались за еду? Они стояли в очереди вместе, а заказывали отдельно, и каждый заплатил из своего кошелька. Сели тоже вместе! То есть они пара, но поругались в пути. Должно быть, она настояла на воскресной поездке к мамаше, а он собирался с друзьями в баню.
– Федь, иди сам в баню!..
– А вон та блондиночка на «Форде» клеит бобра из «БМВ», – Федя показал за стекло. Озеров, против воли заинтересовавшийся, посмотрел на улицу. – Она очень долго танцевала возле своей машины, будто не знала, как вставить пистолет в бак. Но он все не обращал внимания. А теперь она просит его залить ей омыватель, видите?
На стоянке действительно стоял старенький «Форд», а возле него топтались юное платиноволосое создание в крохотной белой шубке и дюжий мужик в кожаной куртке, не сходившейся на животе, на самом деле похожий на бобра. В руках юное создание держало канистру, а мужик шарил под капотом старичка «Форда», стараясь поднять крышку.
– На самом деле она все сама умеет, – продолжал Федя Величковский. – Когда бобер был на подходе, с поворотником на шоссе стоял, она крышку уже открывала. И сразу захлопнула, как только он повернул!
Максим посмотрел на своего сценариста, как будто впервые увидел.
– Слушай, а ты, оказывается, фантазер! Может, из тебя правда писатель выйдет. Главное, врешь от души. И никак тебя не проверишь.
– Почему не проверишь? Можно подойти и спросить! Хотите, я спрошу! Легко! Между прочим, Булгаков…
– Может, поехали, а? – почти жалобно попросил Озеров.
– Вы идите, а я сейчас, только еще одну сосисочку возьму. Вам взять?
– Лопнешь.
Солнце светило вовсю, дорога лежала впереди просторная и широкая, упиралась в сияющий холодный горизонт, до Нижнего Новгорода оставалось еще двести километров с гаком.
Как хорошо, думал Федя Величковский, что еще далеко. Он с детства любил ездить «далеко».
– Это наше последнее свидание. Я ухожу.
Ляля, грохотавшая кастрюлями на полке, замерла и аккуратно пристроила большую крышку от сковородки на маленький ковшик. Крышка не удержалась и поехала.
– Ромка, что ты… сказал?
– Ляль, ты все понимаешь. И давай без истерик, ладно? У меня вечером спектакль. После спектакля я поеду к себе.
– Куда к себе? Подожди, – сказала Ляля, нашарила табуретку, села, тут же вскочила и опять плюхнулась, как будто ее не держали ноги. – Спектакль да, я знаю, но… Нет, подожди, так же нельзя…
Она собиралась варить кашу – Роман перед спектаклем ел исключительно кашу и пил черный кофе, – и теперь сильно открытый газ полыхал и сипел, вырываясь из конфорки. Выключить его Ляля не догадывалась.
– Ну все, все, – он подошел и погладил ее по голове. – Ну, ты же умница, старуха!.. Ты ведь все понимаешь. Мы же оба знали, что рано или поздно…
– Подожди ты! – дрожащим голосом перебила его Ляля. – Что рано или поздно?! Я же тебя люблю!
– И я тебя люблю, – сказал Роман и прижал ее голову к себе. – Поэтому мы расстаемся. Так гораздо лучше, правильнее!
Несмотря на то что в первую же секунду она поняла, что все закончилось и он от нее уйдет, уйдет именно сегодня, сейчас, она вдруг поверила, что обойдется. Он ее любит. Он же сам только что сказал.
– Ромка, подожди, – попросила она. – Ты мне объясни, что случилось?.. – И зачем-то подсказала: – Ты меня разлюбил?
Он вздохнул. Под ее щекой у него в животе забурчало.
– Наверное, и не любил никогда, – признался он задумчиво. – То есть я любил и сейчас люблю, но не так, как надо!..
– А как?! Как надо?
Ляля вырвалась, слезы показались у нее на глазах, и она стала быстро-быстро глотать, стараясь проглотить их все до единой.
– Лялька, не истери! – прикрикнул Роман. – Наши дороги должны разойтись. Я решил, пусть они лучше разойдутся прямо сейчас. Зачем продолжать, когда понятно, что продолжения не будет?
– Но почему, почему не будет?!
Морщась, он отошел и встал, привалившись плечом к дверному косяку. Очень высокий, очень красивый и озабоченный «сценой расставания».
– Ну… по всему, Лялька. Я, наверное, в Москву уеду. Эта столичная знаменитость спектакль у нас запишет, и я уеду. Я больше не могу… тут. – Подбородком, заросшим корсарской щетиной, он показал куда-то в сторону ходиков, которые мирно тикали на стене.
Ходики тикали, не обращая внимания на катастрофу, только что разметавшую Лялину жизнь в щепки. Им было все равно.
– Ты не думай, что я пошляк! Но мне правда здесь тесно. Ну что меня ждет? Тригорина я сыграл, Глумова тоже. Мистера Симпла сыграл. Ну, кого мне еще дадут? Я же старею, Ляля.
– Тебе всего тридцать два, – произнесла она, чтобы что-нибудь сказать.
Синее газовое пламя, разрывая конфорку, сипело и плясало у нее перед глазами.
– Уже тридцать два! Уже, а не всего!.. Каждый день по телевизору показывают мальчиков и девочек, которым по двадцать пять, а они звезды! Их знает вся страна, хотя они бесталанные, как… как бараны, я же вижу! Мне давно надо было уехать, десять лет назад, но я все тянул. А теперь вот… решился.
– Ромка, ты не уйдешь от меня.
– Если бы ты меня любила, – сказал он с досадой, – ты бы сама меня выпроводила давно. Мне нужно развиваться, или я погибну. А ты такая же эгоистка, как все.
Тут его вдруг осенило, на что нужно напирать в «сцене расставания» – именно на эгоизм и настоящую любовь. Он воодушевился.
– Ты же знаешь, с кем имеешь дело! Я артист, а не плотник вроде твоего тупорылого соседа!.. Я должен расти над собой, иначе зачем? Зачем я родился? Зачем вынес все муки?
– Какие муки? – сама у себя тихонько спросила Ляля. Она тоже поняла, что он «ухватил суть мизансцены», сейчас доиграет и уйдет. И она останется одна.
Ходики продолжали тикать, а газ – сипеть.
Вся Лялина жизнь на глазах обращалась в прах, а Ляля сидела и смотрела, как она обращается.
– Если бы ты меня любила, ты помогала бы мне по-настоящему! Ты бы не давала мне ни минуты покоя! Заставляла добиваться большего. Бороться и побеждать!
– Ромка, ты всегда говорил, что дома тебе нужен как раз покой и больше ничего. Что ты все отдаешь зрителю. И я тебе помогала! Правда, я старалась. Я всегда подбираю репертуар, чтобы тебе было что играть! Мы даже с Лукой из-за этого то и дело ссоримся!
Лукой за глаза иногда называли директора драматического театра, где Ляля работала заведующей литературной частью, а Роман не работал, а «служил». Он знал, что большие артисты всегда «служат в театре».
– Ты умная взрослая тетка, – сказал Роман устало. – Ты же не могла всерьез предполагать, что я на тебе женюсь!
– Я… предполагала, – созналась Ляля.
Он махнул рукой.
– Ну, что ты от меня хочешь?.. Я не останусь. Я должен вырваться.
Она кивнула.
Он еще постоял в проеме, глядя на нее. Доигрывать мизансцену ему не хотелось. Как-то совестно стало, что ли. Странное чувство.
– Ну, я в театр, – сказал он наконец. – Вечером меня не жди. Ты все понимаешь, моя хорошая!..
«Хорошая» все понимала.
Все же она была на самом деле «умной теткой» и прочитала за свою жизнь горы разной литературы. Из этой литературы она знала, что так бывает, и даже довольно часто. Даже почти всегда. Любовь заканчивается крахом, надежды гибнут, мечты оказываются растоптанными.
…Ты больше не нужна. Ты делала для меня все, что могла, – подбирала мне спектакли, выискивала роли, уговаривала строптивых режиссеров. Теперь я «встал на крыло», и твоя опека мне мешает. Я уеду – в Москву, в Нью-Йорк, на Северный полюс, – и там у меня начнется новая жизнь. Тащить за собой старую не имеет смысла, да и скучно. И вот еще, самое главное, – я тебя разлюбил.
А теперь мне пора. Ты все понимаешь, моя хорошая. Как я тебе благодарен.
– Я тебе очень благодарен, – пробормотал Роман не слишком уверенно. – Вещи… я потом, ладно?
– Ладно.
На крыльце что-то загрохотало, старый дом вздрогнул, как будто все еще был цел, как будто только что не обратился в прах.
– Хозяйка! – закричали откуда-то. – Ты дома?
Роман, который хотел еще что-то сказать, махнул рукой. Ляля сидела и смотрела, как он торопливо сдергивает с крючка куртку и напяливает ее, с ходу не попадая в рукава. Входная дверь, обитая для тепла черным дерматином, распахнулась, и, нагибая голову, в дом вошел сосед Атаманов.
– Здорово, – сказал сосед. – Ляль, я карнизы сделал. Заносить?
– Пока, – одними губами молвил Роман из-за его плеча. – Я тебя люблю.
Хлопнула дверь. По крыльцу прозвучали легкие, освобожденные шаги.
– Ты чего такая? – спросил Атаманов. – Газ у тебя шпарит! Белье, что ль, кипятить собралась?
Ляля сидела на табуретке и рассматривала свои руки. Лак на ногтях совсем облупился. Завтра она собиралась на маникюр. Сегодня никакого маникюра быть не может, сегодня у Романа спектакль. Он играет главную роль. Она должна присутствовать. Он всегда говорит, что ее присутствие поддерживает его. А завтра в самый раз. После спектакля Ромка будет спать до полудня, и она успеет сбегать в салон.
– Карнизы, говорю, сделал. Прибивать сейчас будем?
Сосед один о другой стянул ботинки – Роман всегда говорил, что разуваться у порога плебейская привычка, – прошел на кухню и завернул газ. Сразу стало тихо, как в склепе.
Ляля посмотрела по сторонам, ожидая увидеть склеп, но увидела собственную кухню и соседа Атаманова.
– Что тебе нужно?
– Ляль, ты чего?
– Уходи отсюда, – выговорила она. – Уходи сейчас же!
– А карнизы?
Оттолкнув его с дороги, Ляля кинулась в комнату, обежала ее по кругу, свалила стул, распахнула дверь в спальню, где царил разгром – Роман всегда оставлял за собой разгром. Ляля затрясла головой, завыла, саданула дверью, выскочила на улицу и побежала.
У калитки остановилась и побежала обратно. Добежав до крыльца, на которое выбрался донельзя изумленный сосед Атаманов, она ринулась к калитке.
– Стой! Стой, кому говорю!..
Сосед перехватил ее, когда она уже дергала щеколду.
– Ты чего? Что это такое?
– Пусти меня!..
Но Атаманов был здоровенный крепкий мужик. Он обхватил Лялю и понес. Она вырывалась, лупила его и кричала. Он затащил ее в дом, захлопнул обе двери и сказал сердито:
– Чего ты голосишь? Соседи кругом!
Ляля ушла в комнату, села на диван и уткнулась лицом в колени, как будто у нее заболел живот.
– Бросил? – спросил из коридора сосед.
Ляля покивала в колени.
– Терпи, – сказал Атаманов.
– Я не могу, – призналась Ляля.
– Да чего там…
– Я не могу, – повторила она глухо.
Сосед топтался и вздыхал. Ляля качалась взад-вперед.
– Не пара он тебе, – сказал сосед наконец.
Ляля опять покивала. Лицо у нее горело.
– Ты женщина… – он поискал слово, – порядочная. А это обмылок какой-то!
– Я тебя прошу, Георгий Алексеевич, уйди ты от меня.
– Как же я уйду, – удивился сосед Атаманов, – когда ты не в себе?
Он еще потоптался и вышел, хлопнула дверь.
Ляля стала тихонько подвывать, и ей сделалось так жалко себя, никому не нужную, старую, толстую, растрепанную женщину, которую только что бросил единственный в мире мужчина, что слезы полились обильно разом и затопили ладони, в которые она уткнулась. Ляля схватила вышитую жесткую подушку и стала вытирать их ею, а они все лились и лились, стекали по вышивке.
Все это больше никому не нужно – ни вышивки, ни подушки, ни молочная каша, которую она навострилась варить. И дом никому не нужен, и сад. Ее жизнь больше никому не нужна. Ромка сказал, что он не просто разлюбил. Он никогда не любил ее так, «как надо». Что с ней не так? Почему ее нельзя любить, как надо?
Ляля и не заметила, как в комнате опять появился сосед Атаманов. Она ничего не видела и не слышала и почувствовала только, как он толкнул ее в бок.
– Поднимайся, помогать будешь.
Ляля боком легла на диван, прижав к лицу подушку.
– Давай, давай, чего там!..
Он приволок из кухни табуретки, утвердил их возле окна и снова стал толкать Лялю.
– Я не могу, – выговорила она.
– А в другой раз я тоже не смогу, – грубо отозвался Атаманов. – У меня дел полно! Вон морозы пришли, а у меня розы по сию пору не накрытые, погибнут все. Вставай!..
У нее ни на что не осталось ни сил, ни воли. Залитая слезами, она неуверенно поднялась, как будто тело не слушалось ее, и встала посреди комнаты, свесив руки.
– Держи.
Сосед сунул ей тяжеленную холодную дрель, за которой волочился черный шнур, и Ляля покорно ее приняла, а он взгромоздился на табурет и сказал сверху негромко:
– Газетку принеси, подержишь, чтоб пыль не летела, а дрель мне подай.
Ляля отдала ему дрель, разыскала на вешалке под пальто и куртками старую газету и влезла на табуретку. Все это она проделывала, как будто наблюдая за собой со стороны – вот косматая, залитая слезами, страшная женщина, шаркая тапками, идет в коридорчик, нагибается, шарит, потом, сгорбившись, несет газету, словно в руке у нее тяжеленный груз.
– Ровно держи, не тряси руками.
Дрель завизжала, стена завибрировала, на газету посыпались мелкие желтые опилки. Визжала она довольно долго.