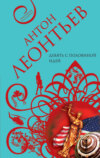Kitobni o'qish: «Мама мыла раму»
Все совпадения имен в романе случайны. Описанные события являются вымыслом автора
Я люблю рисовать лошадей и собак. В лошади у меня хорошо получается голова. Гораздо лучше, чем задние ноги. С собаками примерно та же история – рисую ровно половину: морду с высунутым языком. Очень мне нравятся колли. Морды вытянутые, лисьи. И воротник вокруг, как у Шаляпина на картине. Тоже мне, дама с собачкой! В Русском музее висит. Там, в этом зале, все – с собачками.
У всех моих знакомых есть собаки или кошки. Даже у кривоногой Пашковой! Мне их нельзя. У меня астма. Ходить на ипподром мне запретила мама.
– Да ты там сдохнешь! – сказала она. – Прямо в навозе и задохнешься.
Теперь, чтобы не задохнуться, я рисую. Да, забыла. Иногда я рисую ноги в туфлях на каблуках. Хорошо получается до колена, потом – какие-то бревна. Приходится надевать на них юбку. Правда, от этого краше ноги не становятся, а мама мне говорит:
– У тебя зубы, как у акулы (в смысле – кривые), не красавица. Будешь себя обшивать – выйдешь замуж.
Кто такого урода замуж возьмет? Неизвестно.
* * *
– Отойди от зеркала! Кому я сказала?!
Катя Самохвалова покорно выдохнула и подошла к окну. Во дворе жили собаки. В подвале – кошки. На последних особенно жаловалась тетя Шура из соседнего подъезда, обещавшая отравить эту пакость, потому что заели блохи, даже на второй этаж запрыгивают. Катя никогда не видела живую блоху. Только в книжке. И ту подкованную. А очень хотелось. Поэтому, когда тетя Шура (Санечка, называла ее мама) прибегала к Самохваловым позвонить, девочка с неприкрытым любопытством спрашивала:
– Кусают?
– Ой, кусают, Катька! Кусают так, что хоть из дома беги!
Бегать из дома в разные стороны было любимым Шуриным занятием. Среди множества маршрутов, освоенных Санечкой, излюбленных было три: через дорогу на работу, на центральный рынок и, наконец, к Самохваловым – позвонить. Но отнюдь не всегда тетя Шура была гонима желанием пообщаться с внешним миром. Самохваловский маршрут для нее представлял особую ценность, так как хозяйка телефона Антонина Ивановна, по совместительству Катина мать, служила преподавателем русского языка как иностранного в международном военном заведении, у КПП которого толпились барышни в ожидании счастливого билета за рубеж.
– У тебя – дочь, у меня – дочь, – напоминала Санечка Антонине Самохваловой.
– Да ладно тебе! – отмахивалась Антонина.
– Вот тебе и ладно… Не успеешь оглянуться, замуж пора отдавать.
– Ну, Санечка, это ты махнула!
– Поверь мне, уж я-то знаю… – таинственно провозглашала соседка и показывала глазами на Катьку.
– Иди, иди! – гнала дочь Антонина Ивановна. – Рано тебе еще об этом думать.
О чем, Катька пока не догадывалась. Значение сакраментальной фразы: «У тебя – дочь, у меня – дочь» – было ей совершенно непонятно. Это взрослому человеку, вошедшему в родительский период жизни, легко переводилось: «Мы с тобой одной крови: ты и я». Катя же Самохвалова воспринимала данный тезис как пароль, с которым в дом входили свои. «Пароль?» – «На горшке сидит король!» – «Заходите тогда, милости просим».
Всем милости просим, кроме ее подружек дворовых: даже кривоногую Пашкову и ту в мамин дом пускать было не велено. А какой от нее вред, от этой Пашковой?
Внизу Наташка Неведонская: шея вывернута, голова сбоку от тела качается, руки не слушаются. Во дворе ее за глаза паучихой называют. Ей – можно. Она умная. Но Катя ее не любит, потому что страшно: вся скрюченная.
– Бедный ребенок! – сокрушается мама, видя, как Наташка «ползет» к школе. – Не могли, что ли, дитя в специальную школу отдать?
– Зачем? – интересуется Катя. – Она же нормальная.
– Да какая же она нормальная? – возмущается Антонина Ивановна.
Но Неведонскую из квартиры не выгоняет, когда та к Катьке приходит, и даже спрашивает: «Как дела в школе?» А какие у нее могут быть дела, это понятно. На днях два здоровенных придурка зажимали ее в раздевалке, чтобы понять, «откуда у нее лапки растут». Но Наташку голыми руками не возьмешь – так вмазала, что мама не горюй. И вечером у Неведонских стоял стон и ор: это Наташка отбивалась от родителей, все время повторяя: «Это он сам! Са-а-м! Пе-е-ервый!». Кате казалось, что у нее пол под ногами трясется от сумасшедших Наташкиных воплей. Не выдержала, подошла к пианино и села на виниловый вертящийся стул.
– Вот-вот, – удовлетворенно отметила Антонина Ивановна, – нечего дурака валять. Занимайся, а то спасу от этих криков нет.
Катя Самохвалова подняла крышку инструмента и со всей силы стукнула ладонями по клавишам.
– Эй! Это ты чего? – возмутилась мать. – Специально, что ли?
– Ничего не специально, – буркнула Катька и крутнулась на стуле. – Я еще литру не выучила.
– Так выучи, – посоветовала Антонина.
– Не могу.
– А ты через не могу.
Катя Самохвалова с тоской посмотрела на мать и робко запротестовала:
– Не могу. Наташа кричит.
– А ты внимания не обращай.
– Не могу…
– Что с нее взять? Больная…
– Никакая она не больная. Она ДЦП.
– Это кто тебе сказал?
– Наташа.
– Ох уж эта Наташа! – посетовала Антонина Ивановна. – Поперек горла мне твоя Наташа. Надо с ее матерью поговорить.
– Зачем? – полюбопытствовала Катька.
– Не твое дело, – отрезала мать и махнула рукой. – Иди вот, литру свою учи.
Катя слезла со стула и отправилась в детскую, она же по совместительству «спальна». Там стояла большая кровать, на которой мать и дочь спали вместе с того самого момента, как умер Арсений Самохвалов – Катин отец. По недомыслию своему Антонина Самохвалова говаривала:
– Эх, Катька-Катька! Раньше здесь на твоем месте папа спал… А теперь – ты.
Девочке становилось неловко. Возникало ощущение, что заняла чужое место. А еще страшно: папа не папа, все равно покойник. А покойников Катя боялась так же сильно, как возможной материнской гибели.
– Вот умру я, – обещала Антонина, – одна останешься. Ни-ко-му не нужна!
В вечном ожидании конца Катька просыпалась посреди ночи и прислушивалась, дышит ли мать. Иногда дыхание прерывалось, и тогда девочка, зажмурив глаза, тыкала в нее рукой, словно нечаянно. Антонина вздрагивала, всхрапывала, таращила глаза и по привычке приговаривала:
– Спи-спи. Давай… спи уже…
И девочка, довольная, засыпала.
«Спальна» была особым пространством в семье Самохваловых: там был Катин угол («все, как у нормальных людей – только занимайся»), шифоньер, полный добра («еще в Монголии покупала»), швейная машинка («спасительница твоя»), кровать и темная комната. Место для хождения в комнате отсутствовало. Но зато при желании, особенно если приставить к стене пустую банку и приложить к ней ухо, можно было расширить свою территорию ровно на величину аналогичной «спальны», только соседской, разумеется. Принадлежала она вездесущей тете Шуре из соседнего подъезда. Точнее, ее дочери Ириске, о судьбе которой дальновидная Санечка пыталась позаботиться уже сейчас: «У тебя – дочь, у меня – дочь».
Дружбы между девочками никак не образовывалось. Оно и понятно. Во-первых, тети-Шурина Иринка на целых аж четыре года была старше Катьки. А кому охота с малявками связываться?! Во-вторых, у Ириски играла человеческая музыка: группа «Спейс», «Миллион алых роз», «Бони М», а у Самохваловых бесконечное «А-атвари… потихо-о-о-ньку кали-и-ит-ку…», ну и типа того. В-третьих, Катька оказалась владелицей подаренных курсантами из Никарагуа косметических наборов «на вырост» («в детстве только проститутки красятся»), предусмотрительно спрятанных Антониной Ивановной в неприкосновенный секретер. Санечка трижды просила соседку продать один за «приличные» деньги, но всякий раз получала отказ, мол, не только же у тебя дочь.
– Так испортятся же! – отчаивалась тетя Шура. – Пока Катька-то вырастет.
– Не испортятся, – уверяла ее Антонина, стоявшая на страже дочерней красоты, и неважно, что будущей.
Сама Антонина наборы не жаловала, предпочитая помаду «Жизель» ядовито-сиреневого перламутра и польские тени в круглых коробочках.
Четвертая причина была самая серьезная: у соседской Иринки жил говорящий попугай и вдобавок еще и рыбки. Рыбки быстро передохли, а птица осталась и якобы называла хозяйку по имени: «Иррр-риска! Ирр-риска!»
– Слышала?
Катька старательно кивала головой, отчаянно лицемеря. Ничего, кроме слов «сика», «сволочь» и «дай», она разобрать не могла. Но от этого зависть не убывала.
И даже чуть не убила Катю Самохвалову. Перепуганная Санечка вызывала «Скорую» к побагровевшей Катьке, вытаращившей глаза на птичью клетку, и умоляла ничего не говорить маме.
А как не говорить?! Соседи донесут быстрее, чем Антонина Самохвалова вернется из своего училища. Нет, рассказать, конечно, надо, но особым образом, как о подвиге ради жизни на земле.
Рассказали, в красках расписав, как несли «раненого бойца» из одного подъезда в другой, как при этом «боец хватал ртом чистейший озонированный воздух района», как сжималось при этом доброе Санечкино сердце и как хорошо, что все хорошо закончилось. О попугае не сказали ни слова.
История про подвиг не помогла.
– Сво-о-олочь ты! – обиделась Антонина Ивановна на дочь. – У тебя астма, идиотка! Сдохнуть ведь могла из-за этого сраного попугая!
Катька возражать не стала: уткнулась в подушку и заплакала то ли от обиды, то ли от радости, то ли от того, что чувствовала себя безмерно виноватой.
Вообще, чувство вины посещало младшую Самохвалову довольно часто: когда ложилась в постель на папино место, когда приходили гости, когда подруги жалели маму. И больше всего, когда случался приступ – вроде как нарушила субординацию и собралась снова занять чужое место, на этот раз мамино.
– Нет уж, подожди, – успокаивала ее Антонина, – сначала я сдохну, а потом уж и ты. А там, глядишь, и лекарство от астмы придумают…
Такой расклад Катьку не устраивал: ей хотелось, чтобы придумали завтра, а еще лучше сейчас. От невыносимости мечты накатывали рыдания.
– Я буду врачом, – заявила она матери.
– Замуж сначала выйди, – посоветовала та дочери и сердито зашелестела выкройкой нового платья.
– Это ты себе? – виновато поинтересовалась Катька.
– Тебе! Мне-то зачем? – по-военному четко произнесла Антонина Самохвалова и неожиданно всхлипнула.
Услышав материнский всхлип, девочка отчаянно заревела.
Ревели в два голоса, каждая – со своей интонацией. Слезы лились обильно, Катька жмурилась, шмыгала носом, мать песенно причитала. Потом разом остановились, выдохнули и замолчали.
– Чай, что ли, ставить? – в нос протрубила Антонина.
– Ставь, – разрешила Катька.
Чаевничали на кухне за столом-книжкой, но зато с хрустальными розетками и витыми позолоченными ложками. Варенье в вазочке янтарно искрилось.
Антонина Ивановна заполнила розетку, протянула ее дочери и ласково проговорила:
– На-а-а, страшненькая моя.
«Стра-а-ашненькая», – подумала Катя и оглянулась на себя в зеркало. И, слава богу, в нем, кроме распахнутой в зал двери, ничего не было видно.
* * *
Кто заставлял меня ее рожать? Сыну уже семнадцать стукнуло. Школу окончил. А Сеня все «роди да роди», «роди да роди». Вот и родила. Тут он и заболел. Восемь было Катерине, когда Сеня умер. И слава богу. Ведь ничего уже не понимал. Ни-че-го-шень-ки! Меня только мамой звал: «Ма-ма! Ма-ма». Катьку увидит – плачет. И все время: «Уйди. Уйди». Та обижается. А я что сделаю? Не в психушку же его сдавать. Жалко. А он как дите малое. Катя его стыдилась… Господи, чего уж теперь? Для себя я ее родила. Для себя! Пусть в старости опорой мне будет…
– Да-а-а, Тонечка. Кто ж вот знал? Кто ж вот знал, что так получится? – причитала за поминальным столом Главная Подруга Семьи Ева Соломоновна Шенкель, закатывая глаза под насурьмленные брови.
Катя перевела глаза на мать. Та оправила на груди платье, взбила прическу, лукаво улыбнулась Главной Подруге и строго посмотрела на дочь – Катя съежилась и уткнулась в чашку.
– Пьешь?
Девочка виновато закивала головкой-луковкой.
– Вот и пей.
Луковка снова кивнула.
– Пей. И иди музыкой занимайся. Вообще обленилась. За целый день к инструменту не подошла.
Катя залилась краской и отодвинула чашку в сторону.
– Разольешь! – прикрикнула Антонина, после чего девочка старательно поправила чашку и вынула из нее ложку.
– Иди занимайся. Уроки сделала?
Катя кивнула.
– Форму погладила?
Еще кивок.
– Трусы? Чулки?
– Ма-а-ама… – смущенно пискнула дочь.
– Что «ма-а-ма»? – с искренним облегчением разразилась Антонина Ивановна. – Что-о-о-о «ма-а-а-ма»?
– Ничего, – ответила Катя и встала со стула.
– Ты… на мать… так… не смотри! – старательно, как на приеме у логопеда, выговаривая все слоги, отчеканила Антонина и взяла паузу. – И не огрызайся!
Катя, как стойкий оловянный солдатик, повернулась на одной ноге и понуро направилась в комнату, в присутствии гостей почтительно называвшуюся «детская».
– И не дерзи матери! – прикрикнула, распаляясь, старшая Самохвалова в луковичный затылок. – Видала, Ева?!
Ева Соломоновна старательно сложила блестящие после жирной самохваловской еды губы и укоризненно помотала головой. Если по совести, то ничего из ряда вон выходящего в Катином поведении за столом она не заметила: ни вызова, ни дерзости. Мало того, ее большое еврейское сердце бухало в груди от зависти. Ева была бездетна. Ей бы такую луковичку за столом! Она бы целовала ее в затылок.
Но существовала еще и многолетняя дружба с Антониной Самохваловой, и эта дружба требовала соблюдения приличий. Поэтому Ева Соломоновна старалась изо всех сил: поджимала губы, если того требовала ситуация, искренне возмущалась и даже давала советы дидактического характера. Потом – мучилась, потому что похороненное заживо материнство Евочки Шенкель требовало сатисфакции.
Для этого Главная Подруга Семьи откладывала юбилейные железные рубли.
– Возьми, Котя, монетку.
– Не надо, – скорее по привычке отказывалась девочка.
– Это от тети Евы. На память.
Катя искала глазами мать. Ева Соломоновна перехватывала взгляд девочки и шепотом говорила:
– Не надо никому говорить. Это тебе, бат.
Катя покрывалась пятнами и прятала монетку в ящик письменного стола. Тетя Ева удовлетворенно поджимала губы и робко гладила девочку по голове, проговаривая про себя: «Бат, бат, бат, бат…» «Бат» по-еврейски – дочка. Главная Подруга Семьи хитрила: никому ж не понятно, только ей одной. Зато по справедливости! А что, разве она не мать? Подумаешь, без детей. Своих растить – дело нехитрое. Попробуй чужого вынянчить и своим не назвать! Такое только Еве Соломоновне под силу: оттого и появилось это зашифрованное «бат». И никто не спросил, что же оно значит. Бат так бат. Ева так Ева!
Когда в поле зрения появлялась Антонина, от заговора не оставалось и следа. Женщины отправлялись накрывать на стол, Катя наблюдала за ними из «детской».
Проводив подругу, мать лениво спрашивала:
– Ева рубль дала?
– Дала.
– Дай сюда.
Катя выдвигала ящик, доставала оттуда холодный увесистый кружочек и протягивала матери. Антонина придирчиво рассматривала подарок, вглядываясь в пущенную по краю рубля надпись:
– Шкатулку принеси!
Катя открывала секретер, доставала массивную шкатулку ручной работы и протягивала матери. Девочке все время хотелось встряхнуть заветный ларчик, чтобы ощутить, как он содрогается от перекатывающихся внутри монет, но она побаивалась и поэтому обращалась с ним как с драгоценностью.
Антонина открывала крышку, окидывала взглядом рассыпавшиеся по дну металлические рубли, на которых то взмывала вверх Родина-мать, то парила голубка, то скакал Медный всадник, и аккуратно выкладывала еще одну теплую от рук монету.
– Можно посмотреть? – робко спрашивала Катя.
– Зачем? – недоумевала Антонина Ивановна. – Я умру – тебе все достанется. Подожди пока…
Девочка согласна была ждать вечно. И шкатулка исчезала во мраке секретера.
– Ева! Что с тобой? – не дождалась ответа Антонина Ивановна, глядя на плотно сомкнутые губы подруги.
– Да-а-а, Тонечка, – наконец-то Ева Соломоновна выдавила из себя начало дежурной фразы. – Нелегко тебе, дорогая.
– Нелегко, – подтвердила Самохвалова и грузно опустилась на стул.
Ева почувствовала себя предательницей и решилась поменять ставший традиционным курс в разговоре:
– Но зато она у тебя такая умница: хорошо учится, музицирует, шьет, вяжет…
– Вя-я-яжет, – согласилась Антонина. – А что толку-то? Ты на лицо ее посмотри! Вся в Сеню!
Ева Соломоновна почтительно подняла глаза на портрет бывшего хозяина дома, водруженный на крышку пианино: ровно посередине, между погонами с полковничьими звездами, на тоненькой шее восседала огромная абсолютно лысая голова, зажатая с двух сторон мясистыми ушами. При близком рассмотрении уши казались войлочными – сверху они были покрыты тончайшим пухом. На голове имелись нос, полные губы и очки с толстыми стеклами, за которыми угадывались полуприкрытые глаза.
– Ну почему же в Сеню? – не согласилась Главная Подруга Семьи Самохваловых. – Губы вот, например, совсем не его.
– Губы не его. Губы мои: не нарисуешь – не увидишь.
– И глаза не Сенины…
– Сенины! Такие же бесцветные и выпуклые.
– Ну где же?
– Точно я тебе говорю!
– А очки? – стояла на своем Ева Соломоновна.
– А что очки? Все уродство ей свое передал. И очки!
– Так нету же!
– Как же нету?! При тебе не надевает – стесняется.
– Ты не говорила, – растерялась Главная Подруга.
– А чего говорить-то?! Чего говорить? Все передал. Все! Грех обижаться на покойника, а на него я обижена. Ничего после себя не оставил!
– Как же не оставил! – задохнулась Ева Соломоновна. – А Котька?!
– Разве только Котька, – продолжала сердиться Самохвалова, словно запамятовав, что, кроме Котьки, Сеня еще оставил ей сына, квартиру, полковничью пенсию до истечения Катькиных восемнадцати лет, а также доброжелательное отношение офицеров училища связи в городе N.
Ева, обнаружившая, что дверь в «детскую» все это время оставалась приоткрытой, почувствовала себя виноватой и в очередной раз попыталась спасти положение:
– Нет, Тоня, – строго произнесла она. – Ты не права. Нельзя быть такой неблагодарной.
– Неблагодарной? – возмутилась Антонина. – Неблагодарной?
– Не гневи бога, Тоня. У тебя – двое детей. Это такое счастье! – выпалила бездетная Главная Подруга.
– Счастье? – не поверила своим ушам Самохвалова. – Это счастье? А ты бы спросила меня, что мне нужно было делать с этим счастьем, когда из-под Сени пришлось горшки выносить! На себе его тягать? Катька мне: «Мама, поиграй со мной». А я ей: «Не до тебя! Папа обкакался». Это счастье?! – в который раз Антонина Ивановна задала подруге риторический вопрос.
Ева Шенкель дипломатично промолчала, а потом не выдержала и снова ввязалась в бой:
– И все-таки, Тоня, так нельзя. Ты же сама приняла решение рожать.
– С чего это ты взяла, Ева? Это Сеня меня упросил: роди и роди. А я его, дура, послушала. Пожалела. Уж очень девочку он хотел. Лучше бы аборт сделала… А потом уж думаю: ну и хорошо, что не сделала. Все-таки не одна. Будет кому воды в старости подать.
Про аборт Катя Самохвалова слышала неоднократно: Антонина Ивановна в порыве откровенности периодически называла дочери разные цифры – то ли шесть, то ли пять, то ли двадцать пять… Девочка давно сбилась со счета. В материнских историях ее больше интересовали эпизоды «возвращения с того света». Антонина Самохвалова не скупилась на подробности и бойко рассказывала входящей в подростковый возраст дочери о трагических последствиях абортов в виде кровотечений и воспалений. При этом вид рассказчицы вызывал абсолютное доверие к жизни: разгоряченная, румяная, с лукавыми огоньками в глазах… Неудивительно, что слово «аборт» в устах матери Катька воспринимала как синоним слова «приключение». Оно, разумеется, носило тайный характер, но от этого своей привлекательности не теряло. Особенно девочке нравились истории о возвращении истерзанной матери домой и об ее встрече с мужем, то есть с Сеней, то есть отцом Катьки Самохваловой.
– Бе-е-е-едная моя, – горевал Сеня, глядя на обескровленное лицо жены. – Ну как же так?! – разводил он руками.
– Вот так… – смиренно опускала глаза Антонина.
– То-о-о-онечка, – обнимал Сеня крупное тело жены.
– Э-эх! – похлопывала она по спине супруга.
Похлопывала-похлопывала, а потом снова отправлялась в абортарий. «Абортарий» для Катьки звучало как «зоопарк».
Историй у Антонины было множество, но все они развивались по одному и тому же сценарию. В результате Катька перестала различать нюансы и объединила все в одну.
Начиналась история дежурной фразой: «От этих мужиков один вред». Антонина произносила этот лозунг так радостно, что у Катьки щипало в носу, словно после газировки, и становилось отчаянно весело. Мужики не казались ей страшными персонажами. Скорее, наоборот. Они были как домовые. Их не видно, а в доме – бардак.
Следующий фрагмент обозначался ностальгическим «Вот помню я…» и заканчивался трагическим «Вот я и думаю: видно, смерть моя пришла». На этом месте Катька пугалась и тревожно вглядывалась в материнские черты, пытаясь обнаружить на них печать смерти. Это был самый сложный момент, потому что смерть выглядела как-то уж очень привлекательно: голубой перламутр на веках и розовый – на губах.
Здесь Антонина вспоминала о воспитательном характере беседы с дочерью, убирала всю лирику и превращалась в орущий санбюллетень гинекологии: страшные последствия аборта – кровотечения, закупорка сосудов, перитонит и смерть.
Перебрав все возможные осложнения, Самохвалова пугалась сама и быстро меняла образ, превращаясь по отношению к дочери в старшую подругу с большим жизненным опытом: «Не давай поцелуя без любви», «Сперва сладко – потом гадко», «Сорок пять – баба ягодка опять», «Сучка не захочет – кобель не вскочит», «Вам, уроды, наши лучшие годы», «Это цветочки, а ягодки потом».
При слове «ягодки» Тоня Самохвалова лукаво щурилась, а потом дергала Катьку за что придется и грозила пальцем: «Не будешь мать слушать – в подоле принесешь!»
– Поняла? – уточняла заботливая мамаша.
Катя утвердительно кивала головой – наступало время заключительного эпизода.
– Вот если бы жив был Сеня…
Глаза Антонины увлажнялись, а Катя про себя добавляла: «То наша жизнь была бы сплошной аборт». В смысле: МАМА+ПАПА=ЛЮБОВЬ.
О том, что такое аборт на самом деле, Катька узнала не сразу. На помощь пришла кривоногая Пашкова, не по годам осведомленная в особенностях женской физиологии. Свою версию она проиллюстрировала, опираясь на «личный» опыт.
– Аборт, – объяснила она, – это когда тебя внизу разрезают, чтобы вытащить ребенка.
– Зачем? – изумилась юная Самохвалова.
– Затем! Чтоб нищету не плодить! Вот мамка моя сказала: ты у меня есть и больше никого не надо.
– А ты?
– А что я? Одного рожу́ – и харе.
Катя смотрела на тринадцатилетнюю одноклассницу и не верила своим ушам.
Сообразительная Пашкова быстро расставила все по своим местам:
– Да что ты вылупилась? Не сейчас же. Потом. Когда женюсь.
Пионерка Самохвалова находилась под впечатлением несколько дней, пока на помощь вновь не явился злой ангел в лице искушенной Пашковой.
– На… – протянула она однокласснице увесистый том.
– Это что?
– То! Дома посмотришь…
Книга называлась «Справочник практического врача» и была снабжена обстоятельственными иллюстрациями. Катя Самохвалова внимательно проштудировала раздел «Гинекология» и к вечеру составила довольно полное представление по интересующему вопросу. Оставался один непроясненный момент: зачем? Справочник на него ответа не давал, и его пришлось искать самостоятельно. В течение недели дотошная Самохвалова легко могла бы давать консультации менее догадливым сверстницам. Достойными внимания Катька сочла две причины: первая – женщина больна, вторая – женщина не хочет рожать ребенка, потому что не любит детей. Третьего было не дано.
Проецируя собственные выводы на многочисленные материнские истории, Катя вспомнила неоднократно повторяющийся эпизод, который обычно венчала одна и та же реплика врача: «Ну что же, уважаемая Антонина Ивановна! Если бы не ваше богатырское (лошадиное, крепкое, прекрасное, удивительное) здоровье, с вами бы я сейчас уже не разговаривал». «Значит, не больна», – решила девочка и пригорюнилась. Оказывается, ее мать не любила детей. Но ведь это других детей! Не ее. «Не меня!» – уговаривала себя Катерина.
Сегодня все стало на свои места. «Значит, и МЕНЯ», – догадалась Катя Самохвалова и заткнула уши с такой силой, что в голове загудело. А перед глазами трепыхалась мамина кружка, на которой золотом горела витиеватая надпись «Уважаемой Антонине Ивановне в честь ее пятидесятилетия от коллег и друзей».
– Самое то для воды! – решила девочка все-таки напоить мать в старости.
* * *
Когда он приходит, мама меня хвалит. Дневник зачем-то показывает и просит играть на пианино. Он слушает, а потом в ладоши хлопает. Как на концерте. Дурак, что ли? Кто дома в ладоши хлопает? И в лоб целует. А у него изо рта пахнет. Противно. Маме приносит три гвоздики всегда. На праздники – конфеты, коньяк и деньги. Их мама потом считает и говорит: «Жмот». Ева говорит: «Жених». Она что, с ума сошла? Какой жених? Она же старая уже, ей пятьдесят три года! Тоже мне, невеста!
– Как тебя звать-то? Катя? Хорошее имя. А меня вот Петр Алексеевич. Друг я. Твоей мамы. Да. Мама еще не рассказывала? Нет? Значит, не успела еще…
Катя молчала.
– Точно не говорила? – хихикал Солодовников.
Девочка внимательно рассматривала ковровый узор под ногами гостя, пока не обнаружила, что носки на ногах были разные. Оба черные, но один – гладкий, а другой – в рубчик.
– Ты чего ж, Антонина Ивановна, не говорила ничего? – продолжал тараторить Петр Алексеевич, пока старшая Самохвалова не усадила его на стул.
«Красный какой! Глаза узкие. И лысый почти. Рубашка в пятнах…» – «сканировала» Катя развалившегося на стуле «маминого друга».
– Господи! Петр Алексеич, в чем это рубашка у тебя? Пятна какие-то желтые! Яичницу, что ли, себе на грудь опрокинул?
– Да уж, Антонина Ивановна, без женской заботы совсем запаршивел!
Катя взглянула на «запаршивевшего» гостя и тут же уткнулась в тарелку. Девочке стало неловко. Между ним и матерью тянулись нити – вязкие до того, что лоб Петра Алексеевича покрылся потом, а грудь Антонины Ивановны – пунцовыми пятнами.
– Пробуйте, Петр Алексеич, бу-у-зы, – гостеприимно предлагала Самохвалова.
– Че-е-его? – напугался Солодовников, отчего с маринованного гриба, наколотого на вилку, слетел лук и благополучно приземлился на рубашку.
– Не бойтесь, – уговаривала Антонина. – Это по-нашему манты.
– Ма-а-анты? – удивлялся Петр Алексеевич. – Надо же!
– Ма-а-анты, – прикрыла глаза хозяйка. – Самые что ни на есть настоящие ма-а-анты – бу-у-узы. Монгольское национальное блюдо.
– Монгольское? – обрадовался Солодовников. – Национальное? Откуда же?
– Ну как откуда? – притворно изумилась Антонина Ивановна. – Я разве же вам не рассказывала?
– Мне-е-е? – закокетничал гость. – Мне-е-е – нет. Это, может, вы кому другому рассказывали… Ну-ка, Катюша, кому мама про бозы рассказывала?
– Про бузы, – поправила девочка.
– Про бузы, – исправился Петр Алексеевич.
– Всем, – многообещающе ответила Катя и засунула в рот кусок сыра.
– Сеня в Монголии служил, еще Катюшки не было, – начала издалека свой рассказ Антонина.
– Надо ж, – расстроился Петр Алексеевич. – В Монголии?! А я вот дальше Москвы никуда не ездил.
«Оно и видно», – подумала Катька и потянулась к коробке конфет.
– Ты куда? – строго спросила ее мать и подвинула «Птичье молоко» к себе. – Давно не чесалась?
– Я одну…
Солодовников снова расстроился:
– Ну разреши нам, Тонечка Ивановна! Правда, Катюша?
– Не надо, – насупилась девочка и укоризненно посмотрела на мать.
Над столом повисло напряжение. Гость заерзал. Катя посмотрела на него сбоку и отметила, что в багровую морщинистую шею впился несвежий воротник заляпанной желтыми пятнами рубашки.
«Шея, как у черепахи. И голова, как у черепахи. Панциря только не хватает». Катьке стало противно от столь близкого соседства, и она, стараясь делать это незаметно, передвинула стул.
От Антонины Ивановны этот маневр скрыть не удалось:
– Ты куда? – строго посмотрела она на дочь.
– Я все.
– Ты, может, и все…
– Можно я пойду?
Катя встала из-за стола с елейным выражением лица, готовая присесть в реверансе. Обычно это срабатывало. Но не в этот раз, похоже, Антонина была чем-то очень недовольна. Оставалось выяснить чем.
– Побудь с нами, Катюша, – вклинился в ритуальный диалог матери и дочери Петр Алексеевич Солодовников.
– Мне уроки делать надо…
– А может, – не отступал Петр Алексеевич, – что-нибудь сыграешь?
– Потом…
– Это когда потом? – грозно поинтересовалась Антонина Ивановна.
– Ну… потом…
– Потом – суп с котом, – догадалась мать и кивнула головой в сторону пианино.
Гостя надо было уважить.
Катя Самохвалова одернула платье, вздернула вверх подбородок и торжественно, как на концерте в детской музыкальной школе, произнесла:
– Слова Гёте. Музыка Бетховена. «Сурок».
– Су-у-урок? – снова изумился Петр Алексеевич и замер в предвкушении встречи с прекрасным.
Если бы Катин преподаватель Инна Феоктистовна Дерябина в этот момент присутствовала в квартире Самохваловых, она бы ушла из профессии раз и навсегда. Ее любимая ученица Катенька барабанила по клавишам, не заботясь о благозвучии, и, раскачиваясь, подвывала.
Песня про сурка Петру Алексеевичу Солодовникову пришлась по душе. Он плотно сжал губы и мелко-мелко затряс головой, всем своим видом показывая, как тронут искусством.
– Вот, значит… – удивлялся он. – Сурок всегда со мною. И сыт я… И рад я… А гляди, без сурка никуда!
Катя, первый раз услышав подобную интерпретацию, надо признаться, несколько оторопела: было что-то в этом дядьке располагающее. Из-за сурка вот растрогался. Удивляется всему. Бузы не ел никогда. Рубашка – в пятнах. И только девочка была готова пересмотреть свое отношение к маминому приятелю, как он все испортил:
– А «Камыш» можешь сыграть?
– Какой камыш? – не поняла Антонина Ивановна.
– Шуме-е-е-ел камы-ы-ыш, – затянул Солодовников. – Дерэ-э-эвья гну-у-у-лис…
– Да вы что, Петр Алексеич! – возмутилась Самохвалова. – Разве это детская песня?
– Если искусство высокое, то разницы никакой нет: детская – не детская. Садись, Катерина, – огорченно махнул рукой истинный ценитель музыки. – Ничего-то ты не умеешь!
«Ты много умеешь!» – не сдавалась младшая Самохвалова, а сама не сводила глаз с матери. Как отреагирует?
Да никак. Промолчала Антонина Ивановна, словно и не заметила. Во всяком случае, так Кате показалось.
– Можно мне идти? – снова пробубнила исполнительница классической музыки.
– Иди, – разрешила мать.
– Иди и… приходи, – радостно добавил Солодовников. – И мы с тобой споем. Правда, споем, Тонечка Ивановна?
Тонечка промолчала. Петр Алексеевич не унимался: